
«Ответственность за другого человека, в его непосредственности, предшествует, несомненно, любому вопросу. Но как она к чему-то обязывает, если третий беспокоит эту внеположность двум, когда моё подчинение (sujétion) в качестве субъекта (sujet) это подчинение ближнему? Третий другой, чем ближний, но он есть также другой ближний и ближний другого, а не просто его подобие. Что мне делать? Кто из них предшествует другому в моей ответственности? Кто тогда они такие, другой и третий, один по отношению к другому? Рождение вопроса.
Первый вопрос межчеловеческого — это вопрос справедливости. С этого момента нужно знать, обрести со-знание (con-science). На моё отношение с уникальным и незаменимым накладывается сопоставление, а также, ради непредвзятости и равенства, взвешивание, размышление, счёт, сопоставление несопоставимых и, с этого момента, нейтральность — присутствие или представление присутствия — бытия, тематизация и видимость лица…;» [1]
Отсюда дедуцируется даже «политическая структура общества, подчиненного законам», «достоинство гражданина», где, однако, различие между субъектом этики и гражданским субъектом должно оставаться заострённым [2]. Но этот выход за пределы чисто этической ответственности, это прерывание этической непосредственности тоже происходит незамедлительно. Третий не ждёт, его «Оность» (illete) взывает с момента эпифании лика в лице-к-лицу. Ибо в абсолютной непосредственности лица-к-лицу с уникальным отсутствие третьего угрожает насилием чистоте этики.
Конечно, Левинас не говорит этого в такой форме. Но что он делает, когда, по ту сторону или сквозь дуэль лица-к-лицу между двумя «уникальностями», он взывает к справедливости, он утверждает и утверждает повторно, что «нужна» справедливость, и что «нужен» третий? Не считается ли он с этой гипотезой о насилии чистой и непосредственной этики, кроющемся в лице к лицу? о потенциально безграничном насилии в опыте ближнего и абсолютной единичности? о невозможности отличить в этом опыте добро от зла, любовь от ненависти, дарение от отнятия, желание жить от влечения к смерти, гостеприимное приглашение от эгоистичной или нарциссической закрытости?
Вот почему третий защищает от головокружительного насилия самой этики. Этика может быть дважды подставлена тому же насилию: подставлена, чтобы через него пройти, но и для того, чтобы его произвести. Поочередно или одновременно. Действительно, третий защитник или посредник, в своём политико-правовом становлении, в свой черед учиняет насилие, как минимум виртуально, над чистотой этического желания, поднесенного уникальному. Отсюда ужасающая обреченность этого двойного ограничения.
Эту двойную связь (double bind) Левинас никогда не обозначает так, как это делаем сейчас мы. И всё же я рискну вписать эту необходимость в качестве следствия его аксиом, аксиом, установленных или поднятых самим Левинасом: если лицом-к-лицу с уникальным втягивает бесконечную этику моей ответственности за другого в некий сорт присяги, предшествующей подписи, уважения или безусловного доверия, тогда неизбежное вмешательство третьего, а вместе с ним — справедливости, свидетельствует о первичном клятвопреступлении. Молчаливое, пассивное, мучительное, но неизбежное, такое клятвопреступление не случайно и не вторично, но изначально в той же степени, что и опыт лица.
Справедливость начнётся с этого лжесвидетельства. (Однозначно — в случае справедливости как права; но если справедливость остаётся трансцендентной или гетерогенной праву, мы всё же не должны разъединять эти концепты: справедливость требует права, а право не ждёт, как не ждёт в лице и Оность третьего. Когда Левинас говорит «справедливость», то, мне кажется, он также даёт нам услышать здесь «право». С такого клятвопреступления берёт своё начало право, предавая этическую праведность).
Клятвопреступление, по моей памяти, не является темой Левинаса, как и присяга — и я не могу вспомнить, что встречал или замечал эти слова в текстах, которыми мы здесь занимаемся. Отсюда необходимость внести уточнение насчёт «присяги до подписи», которая также означает — в этот раз практически касаясь буквы текста Левинаса — долг до любого контракта или любого заёма. Левинас не преминет в другом месте сказать об «изначальном честном слове», как раз в опыте «заверения», «свидетельствовании за себя», «праведности лица-к-лицу» [3].
Нестерпимый скандал: даже если Левинас нигде этого не говорит в такой форме, справедливость врёт при первом вздохе, предаёт «изначальное честное слово» и клянётся только чтобы нарушить, отречься или попрать клятву. Несомненно, именно перед этой обреченностью Левинас представляет вздох праведника: «Что мне делать со справедливостью?»
С этих пор в отправлении справедливости мы больше не можем различать между верностью присяге и лжесвидетельствующей неверностью, но прежде всего между предательством и предательством, всегда больше, чем одним предательством. Тогда надлежит, со всей требуемой аналитической осторожностью, внимательно отнестись к качеству, модальности, ситуации нарушений в этой клятве в верности, в этом «изначальном честном слове», предшествующем всем присягам. Но эти различия никогда не сотрут след этого инаугурационного клятвопреступления. Как третий, который не ждёт, просьба, которая открывает и этику, и справедливость, проходит через квази-трансцендентальное или изначальное, даже до-начальное клятвопреступление.
Можно даже сказать «онтологическое» с того момента, как оно прикрепляет этику ко всему тому, что её преступает и её предаёт (в первую очередь, сама онтология, синхрония, тотальность, Государство, политика и т.д.). Можно даже увидеть в злонамеренности неподавимое зло или радикальное извращение, если бы такая изначальная связь не отсутствовала, и если бы возможность злонамеренности [4], по крайней мере, её шествование по пятам, некоторая извратимость (pervertibilité), не являлись также условием Блага, Справедливости, Любви, Веры и т.д. И возможности совершенствования.
Эта призрачная «возможность» не есть, всё же, абстракция изначальной способности к извращению (pervertibilité). Скорее, это будет невозможность контролировать, решать, определять границу, невозможность установить, чтобы держаться подле него, с помощью критериев, норм, правил, порог, который отделяет способность к извращению от акта извращения (la pervertibilité de la perversion).
Эта невозможность нужна. Нужно, чтобы этот порог не попадал в распоряжение общего знания или отлаженной техники. Нужно, чтобы он превышал любую процедуру регламентации, дабы открыться тому самому, что всегда рискует себя извратить (Благо, Справедливость, Любовь, Вера, возможность совершенствования и т.д.). Это нужно, нужно это возможное гостеприимство по отношению к худшему, чтобы гостеприимство лучшего обрело свой шанс, шанс дать прийти другому, да (oui) другого, как и да другому.
* * * * *
[1] « Paix et Proximité », в Emmanuel Lévinas, Cahiers de la nuit surveillée, 1984, p. 345. Левинас подчеркивает только слово «уникальный»
[2] «В своей этической позиции я (moi) отлично и от урожденного гражданина Города, и от индивида, который в своём естественном эгоизме предшествует любому порядку, но на котором политическая философия, начиная с Гоббса, пытается выстроить социальный или политический порядок Города» «La souffrance inutile», ibid., p. 338.
[3] Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, 1961, pp. 176-177
(См. в переводе Левинас Э., Избранное. Тотальность и Бесконечное, 2000, с. 206-207; перевод этих цитат из «Тотальности и Бесконечного» изменен; в дальнейшем, при цитировании Тотальности и Бесконечного, в скобках указываются страницы и оригинального, и русскоязычного издания).
[4] Здесь, возможно, мы как никогда близки к букве некоторых высказываний, которые в «Тотальности и Бесконечном» напоминают о воле к всегда возможному предательству: «В сущности воли, поддающейся насилию, заключено предательство» (p. 205 / с. 230). «Воля, таким образом, находится между предательством и верностью, которые одновременно характеризуют своеобразие ее силы» (p. 207. / с. 231-232). Курсив мой (Деррида).
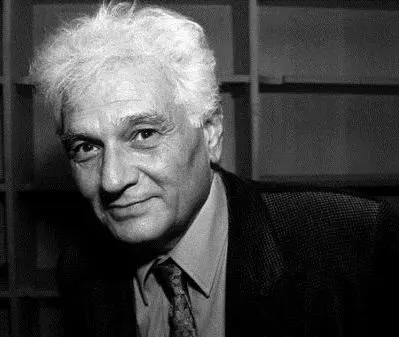
Перевод отрывка из Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas, 1997, pp. 64-69
Перевод – syg.ma
Источник тут
Оригинал тут







































