Ниже представлен текст закрытого семинара, который Жак Деррида проводил 16 и 21 апреля 1986 г. в Йельском университете с четырьмя участниками: Анджеем Вармински, Томасом Пеппером, Томасом Кинаном и Томасом Левином. До сих пор был доступен лишь пересказ выступления Деррида на этом семинаре, однако в 2021 г. были опубликованы расшифровки магнитофонных записей. Это заседание стало своего рода «репетицией» выступления в Эссекском университете, которое состоялось в мае того же года, где Деррида зачитал как свои реплики, так и реплики своих четырех собеседников. Перевод обсуждения, которое состоялось в Эссекском университете после выступления Деррида, можно найти на данном канале («По поводу Хайдеггеровских чтений»).
16 апреля, кассета 1, сторона А
Деррида: Итак, план такой, что я, в максимально экономичной форме, выступлю с докладом, как я это сделал в тот раз [на конференции 1986 г.], я правильно понимаю? Что ж, я начну…
Вармински: Мы как хора.
Пеппер: Мы британцы, а это страшнее.
Деррида: Итак, когда проект настоящей конференции был составлен, я понял, что она будет посвящена прочтению Хайдеггера, а с моей стороны — моему прочтению. И я спросил себя, какой наиболее подходящий вклад я могу сделать, чтобы он лучше всего укладывался в рамки проекта. Сначала я подумал, что, с одной стороны, я бы не смог сделать доклад в виде, так сказать, обзора того, что можно было бы назвать моим прочтением Хайдеггера, а с другой стороны, для меня было бы лучше продолжить ту работу, которую я уже по конкретным текстам веду.
Поэтому я подумал, что будет лучше, например, предложить анализ текста Тракля в качестве расширения того, что мною уже было сделано и что послужило поводом для лекции в Университете Лойолы в Чикаго [на конференции «Деконструкция и философия» 1985 г., русский перевод см. в книге Хайдеггер М. Что зовется мышлением?] и в Северо-Западном Университете в том же году и с теми же участниками. Это было продолжением эссе «Geschlecht»: первая часть уже опубликована, второй частью была лекция в Чикаго, и я подумал, что лучше всего продолжить — с теми же собеседниками, — предложив третью часть, которая заключает в себе прочтение Тракля. Такова была одна из возможностей.
Другая заключалась в том, чтобы предложить прочтение хайдеггеровского прочтения «Темея» и хоры, хоры в «Тимее», так как над этим я сейчас как раз работаю, об этом говорю на своем семинаре. И в том и в другом случае суть в том, чтобы тщательным, микрологическим, сложным образом продолжить работу, основанную на текстах — Хайдеггера, Платона, Тракля, — которые сами по себе являются трудными. И я от такого рода вклада отказался, подумав, что будет лучше, ввиду малого времени и особенностей ситуации настоящей конференции, если я попытаюсь прямо, несколько обобщенно и упрощенно сказать где — не где я нахожусь, но в каком движении или колебании, в каком сомнении, так сказать, мое чтение Хайдеггера обнаруживает себя в настоящий момент.
Я подумал, что, поступив таким образом, я буду более обезоруженным, если хотите — ведь микрологическое чтение всегда оказывается хитрым, вооруженным, виртуальным, — я буду более обезоруженным, а то, что я скажу, будет более открытым для обсуждения. Я подумал, что будет предпочтительнее обсудить, стоит ли мне поступить именно так. И более того, это сделало бы сказанное мною более доступным для понимания, а точнее, открытым для вопросов.
Что впоследствии позволит мне извлечь из этого обсуждения всё возможное, поскольку в ответ на то, что я в качестве гипотез, неуверенных вопросов собираюсь предложить, я ожидаю множество вопросов и возражений со стороны слушателей. По этим-то соображениям я и решил подготовиться к данному заседанию, собрав вместе четверых друзей из Йеля, которые хорошо знают Хайдеггера и с которыми я постоянно дискутирую. Таким образом, то, что я собираюсь сейчас сказать, это то, что мы обсуждали вместе в ходе заседания, имевшего место в Йеле 16 и 21 апреля… Стоп.
Неустановленный голос: Я думаю, мы их просто включенными оставим.
Деррида: Хорошо. Итак, я подчеркиваю: то, что я буду сегодня говорить, соответствует наиболее неустойчивому, сомнительному, опасному и рискованному в моем отношении к Хайдеггеру. Так что, даже если некоторые из моих утверждений покажутся уверенными по своему тону или по своей форме, это ничего не меняет в том, что я скорее подвергаю свои размышления испытанию, нежели фиксирую их. С этой целью я не стану возвращаться к мотивам и темам, которыми я в связи с Хайдеггером уже занимался, будь то вопросы собственного, отсвоения (Enteignung), близости или Entfernung, присутствия, голоса или литературы, — всем этим я уже занимался в текстах, с которыми некоторые из вас знакомы.
Также не стану я возвращаться к вопросам, сформулированным в прошлом году на конференции в Университете Лойолы в заключении второй части эссе «Geschlecht». Я не хочу к этому возвращаться. Я лишь хочу прочертить несколько нитей, подытожив вопросы, глубоко меня волнующие теперь, когда я читаю Хайдеггера или о Хайдеггере говорю. И поскольку я уже много говорил о вопросах, поскольку я много использовал слова «вопрос» и «вопрошание», именно с этой нити я и начну. Итак, первая нить — а их будет четыре, четыре нити я попытаюсь связать вместе, и вы, безусловно, поможете мне это сделать, потому что мне кажется, что они образуют один узел.

Первая нить как раз касается вопроса о вопросе, т.е. той привилегии, которую Хайдеггер никогда не переставал отдавать вопрошающей форме мысли. Естественно, Хайдеггер нередко ставит вопросы о вопросе. Для него это привычный жест — сказать: «Почему почему?» — удвоив тем самым вопрос. Однако насчет достоинства вопроса, насчет того, что наиболее стоящим для мысли является вопрос — насчет этого, насколько мне известно, Хайдеггер никогда — я не скажу: никогда не ставил вопросов, так как речь уже идет не о постановке вопроса; я не скажу: никогда не задавал вопросов, нет, но он никогда не покидал этой позиции.
Я имею в виду, что он всегда определял свой путь мысли как путь вопрошания. Желая определить мышление в качестве пути — я не стану к этому возвращаться, всё это хорошо известные вещи — определяя Denken как Weg или unterwegs, он всегда мыслит путь как путь вопрошания или вопроса. Что меня интересует — и я здесь, несомненно, совершаю жест, отличный от вопроса, и говорю о «жесте», возможно, потому, что между хайдеггеровским и — с учетом всех обстоятельств и со всей скромностью я скажу — моим, как это назвать, стилем, жестом, манерой, габитусом, опытом есть различие в жесте: не в содержании мысли, а именно в жесте, и мой жест, возможно, будет заключаться в том, чтобы, не размышляя о вопросе, набросать движение мысли, к вопросу несводимое.
Естественно, определяя Weg и Denken в качестве вопроса, вопрошания, в первую очередь можно предположить, что путь и есть вопрошание, ведь когда мы идем, находимся в пути, мы хотим узнать назначение, узнать куда — куда нас ведет этот путь. Нет пути без вопрошания, как нет вопроса, который бы не следовал по некоторому пути. Но определить путь как путь вопроса, т.е. спросить, куда мы направляемся, уже означает заранее подчинить движение телеологии — даже если Хайдеггер, само собой, бдителен по отношению к всему телеологическому в классическом смысле этого термина, — но, с другой стороны, это также означает вписать движение в необходимость ориентации.
В каком направлении? Откуда мы движемся? Куда движемся? И археология или телеология являются, скажем так, пределами вопрошающего движения. Если мы спросим себя, почему вопрос предстает в виде окончательной формы мыслящей речи, первый возникающий здесь ответ будет такой: вопрос — это форма дискурса, конкретная форма дискурса, и можно провести грамматический, риторический анализ вопрошающего дискурса. В любом случае, я не собираюсь таким анализом здесь заниматься, но в любом случае, чтобы имелся вопрос, должно быть не только то, о чем спрашивают — я вернусь к хайдеггеровскому анализу в начале «Бытия и времени», посвященному Gefragtes, Befragtes, das Fragen, но я не стану возвращаться к другому…, к структуре вопроса, — но должен быть и кто-то еще.
Без зова не спрашивают, зова другого, независимо от того, исходит ли зов от другого или же он к другому обращен, и если бы мне нужно было продумать, почему вопрошание для Хайдеггера является привилегированной формой пути мысли, я бы связал этот вопрос с вопросом зова другого, поскольку он превосходит (и должен превосходить) философию и путь мысли. Я не даю определение другому, верно? Хайдеггер, конечно, говорит о бытии, что оно является трансцендентным: иными словами, зов в вопросе — это зов бытия. Он определяет Denkwürdigkeit, достоинство вопроса для мысли, опираясь на зов бытия.
Это потому, что прежде всего имеется зов бытия, который говорит нам о том, что наилучшей формой, самой стоящей формой мысли является форма вопрошания. Речь идет о вопросе, который, очевидно, не является ни вопросом сократической иронии, ни вопросом какой-либо формы философского вопрошания, но который тем не менее удерживает определенную преемственность, определенное отношение традиционности к философии в качестве вопроса как такового… т.е. к сократической иронии. Итак, является ли этот зов бытия, который сообщает…
Вармински (видимо, не расслышав французское выражение): Зов бытия, l’être, или зов другого, l’autre?
Деррида: Зов бытия. Я пытаюсь выяснить, каким образом зов, который делает возможным и необходимым вопрос, определяется Хайдеггером как зов бытия. Этот зов бытия определенным образом связан с вопросом о Ruf, который открывает, делает возможной, к ней не сводясь, проблематику этического и морального сознания, как она рассмотрена в «Бытии и времени».
Таким образом, меня интересует (это первая нить моего вопроса), должен ли этот зов бытия как трансцендентного — Хайдеггер не только говорит, что бытие есть трансцендентное, он говорит, что бытие есть совершенное иное, также он говорит о совершенно другом, причем о другом не в левинасовском смысле, он говорит о бытии, что оно есть совершенно другое и что оно есть schlechthin (просто) трансцендентное — должен ли этот зов бытия как совершенно иного открывать мысль в форме вопроса и, стало быть, является ли вопрос наиболее подходящей формой — формой, которая лучше всего подходит этому зову бытия как другого, и не должно ли этому вопросу предшествовать утверждение (affirmation).
Иными словами, отдавая привилегию вопросу перед утверждением, не воспроизводит ли Хайдеггер нечто от той философии, которую он отграничивает от мысли, т.е. от сократовской, платоновской традиции. Разумеется, утверждение, о котором у меня здесь идет речь, неотделимо от возможности вопроса. Это не позитивное или догматическое утверждение. Это «да», которое не закрывает вопрос. Но которое при этом не выводится, так сказать, из возможности вопрошания.
Одна из ставок, которую я рискую здесь сделать, заключается в том, что привилегия вопрошания, учрежденная Сократом, например, или философией, может привести к привилегии исследования, знания, расследования, любопытства, т.е. ко многим режимам, по отношению к которым Хайдеггер выражал подозрение или во всяком случае занимал деконструктивную позицию. И мне интересно, не является постоянная реабилитация вопрошания всё еще чем-то слишком философским; ладно, говоря одним словом, не является ли это слишком философским для хайдеггеровского дискурса. Такова первая нить.
Вторая нить касается вопроса (опять-таки вопроса) о технике. Я не стану его рассматривать так, как я (и не только я) уже попытался это сделать в других местах [см. «Mémoires pour Paul de Man»]. Я бы просто хотел посмотреть под определенным углом, ээ… который был бы… нет, ладно, мне трудно импровизировать, особенно когда вокруг столько устройств. Я возьму пример техники с той стороны, где Хайдеггер говорит: «Сущность техники не есть нечто техническое». Говоря, что сущность техники не есть нечто техническое, он вновь совершает весьма классический жест. Если условием размышления о технике является размышление о сущности техники, которую нельзя смешивать с техникой в качестве сущего, с технологией, значит, техничность не должна быть технологической.
Именно так на протяжении истории философии, начиная с Платона и Аристотеля, всегда мыслили сущность. Хорошо. Это значит, что размышление о технике, о сущности техники следует ограждать от техники самой по себе. Точно так же, когда Хайдеггер говорит, когда он отграничивает — здесь я отсылаю к тому, что я попытался артикулировать в своей лекции о Поле де Мане по поводу Gedächtnis и Erinnerung, — когда он хочет продумать память мышления иначе, оградив ее от мнезического представления или техники, мнемотехники, он совершает аналогичный жест, который заключается в том, что память мышления не есть мнемотехника, не есть представление или психология памяти как представления.
Он, стало быть, хочет спасти, так сказать, размышление о сущности от какой бы то ни было контаминации (смешения и загрязнения) — здесь, например, от контаминации техникой или наукой. И одним махом он хочет оградить язык этого размышления, этой памяти мышления, поэтический язык памяти мышления, он хочет оградить его от всякой технической инструментализации. Итак, мне интересно, есть ли что-нибудь, что можно было бы абсолютно оградить от всякой техничности в языке и, стало быть, в мысли, а всё, что в разных местах я пытался провести под рубрикой изначальной итерабельности, изначальной восполнительности и т.д., пометило бы тот факт, что с самого начала языка, с самого начала самой мыслящей мысли, имеется нечто вроде технической инструментализации. Повторения и технической инструментализации. Учитывая при этом, что больше нельзя размышление о сущности техники оградить от техники. Иными словами, сущность техники не будет чистой от любой техники.
Итак, я взвешиваю легкость и тяжесть того, что здесь говорю, поскольку если принять эту «логику» (в осторожных кавычках), значит мы призываем к вопросу не что иное, как онтологическое различие, ведь если есть онтологическое различие, значит сущность Х не должна быть Х. Хорошо. Получается, ставя вопрос о технике в той форме, в которой я его только что поставил — этот вопрос я подробно рассмотрел в лекции о Поле де Мане, — мы придем к тому, чтобы помыслить различие, которое бы еще — или уже — не было различием онтологическим.
Так что вопрос для меня — в том, на что я здесь осмелился — будет не в том, чтобы дисквалифицировать, счесть нерелевантным онтологическое различие или размышление о сущности, а в том, чтобы выйти на тот уровень, где такое размышление о сущности бытия, мысль об онтологическом различии вновь приводит нас — я говорю «вновь», т.е. через повторение — вновь приводит нас к тому, чтобы защищаться против угрозы контаминации несобственным и техническим, эмпирическим, онтическим.
И, скажем так, диагностируя этот защитный процесс, мы, возможно, подготавливаем мысль о различии, которое больше не будет различием онтологическим. Именно это — что ж, я пересказываю всё это крайне схематично и формально, обобщенно — постоянно беспокоит меня при чтении Хайдеггера, в тот самый момент, когда я, как бы это сказать, отдаюсь самой строгой необходимости его вопрошания. Таково с моей стороны беспокойство, оно радикально, действительно, потому что, если мы станем спрашивать себя, является ли онтологическое различие наиболее достойным для мысли, мы будем к Хайдеггеру максимально близки и в то же время далеки от него — быть может, абсолютно радикальным образом.
Вармински: Если б я мог, я думаю, я связал бы в этом месте, как вы только что говорили, первую «нить» со второй, потому что вы закончили свои замечания по поводу первой, сказав, что «привилегия вопрошания» — и т.д. — «остается слишком философской». Полагаю, мой вопрос, учитывая, что статус вопрошания и вопроса у Хайдеггера остается очень, как вы знаете, очень сложным и т.д., был бы такой: какой смысл — грамматический, семантический, — какого рода нагрузку несет высказывание о вопрошающей мысли о сущности техники, если мысль о сущности техники является мыслью вопрошающей? А ваше подозрение или колебание, ваш способ дестабилизировать Хайдеггера заключается в том, чтобы сказать, что в такой вопрошающей мысли имеется некий остаток, restance, техники. Это значит, что независимо от того, что вопрос — у Хайдеггера — означает, в нем также должен иметься остаток техники.
Деррида: Полностью согласен. Но тогда вы в конечном итоге указываете на извращенную структуру всего этого. Другими словами, когда Хайдеггер хочет отделить себя от техники, так посредством привилегии, отданной режиму вопрошания, он и продолжает быть слишком техничным. Иными словами, вопрошание определенным образом остается слишком техническим, по сути своей слишком техническим. Это я и нахожу интересным: желая защититься от Х, мы даже больше подвержены воспроизводству Х, чем когда пытаемся продумать контаминацию.
Пеппер: Могу ли я присоединиться к вопросу Анджея, его углубив, потому что он в каком-то смысле буквально сорвал эти слова с моего языка. И чтобы сложить второй вопрос с первым, я бы хотел спросить — ну, всё выглядит так, будто в центре рассмотрения оказывается вопрос о вопрошании, которое самое становится техне или техникой. В каком-то смысле вы говорите: «Что есть это? что есть это? что есть это?» — и, наконец, добираетесь до вопроса: что есть вопрос? И я бы хотел это связать с двумя вещами: во-первых, с дестабилизацией проблемы чтения вопроса как такового у де Мана, скажем так, даже в риторическом вопросе в конце поэмы Йейтса в «Семиологии и риторике».
Так вот, так же как, например, в «Грамматологии» вопрос «что есть письмо?» разрушает вопрос «что есть?», мы теперь спрашиваем, подвергается ли вопрос разрушению со стороны вопроса «что есть вопрос?». Да. И чтобы связать это с проблемой сократовской иронии — в «Что зовется мышлением?» фигура Сократа и то, как Хайдеггер ссылается на него (потому что вы еще использовали выражение «оградиться» и «огражден») как на самого чистого мыслителя на Западе, ну, как на того, кто не переставал спрашивать…
Деррида: Я об этом не говорил, потому что это потребует долгой проработки и займет много времени.
Пеппер: Хорошо — тогда отношение между тем, что вы назвали «сократовской иронией» — ирония бывает разная: есть кьеркегоровская и т.д., и т.п., — между вопросом сократовской иронии и отношением между мыслью о вопросе и мыслью о технике вопроса как ограждением или механическом повторением, как техникой. Ну то есть я думаю, я всего лишь резюмирую…
Деррида: Именно. Эту тему я и поднимал в связи с Полом де Маном. Вчера я просматривал этот уже отдаленный доклад, и там был момент, где вопрос зашел как раз о риторичности техники. Говорил я следующее:
«Так же, как Хайдеггер говорит: “Наука не мыслит” — или: “Сущность техники не есть нечто техническое”, он сказал бы, в рамках той же самой логики: риторика является всего лишь отдельной дисциплиной или областью, весьма поздней и даже “технической”, она изучает только модальность речи; [он бы сказал, если бы к нему обратились с вопросом по поводу риторики вопроса, он бы сказал] мыслящая речь, мышление о риторике сама риторической не является. Он говорил [он сказал бы] то же самое о лингвистике или семиотике.
[Мышление о языке не является языковым, мышление о лингвистике не является лингвистическим, как бы то ни было… Так вот, то, что я здесь объясняю, так сказать, позволит мне продвинуться чуть дальше, если я буду цитировать, тем более что текст этот еще не опубликован. Итак,] в этом месте, по крайней мере, деконструкция больше не является “хайдеггеровской”: да [si в смысле “да”], наука может мыслить, сущность техники и мышление об этой сущности удерживает нечто техническое, а мышление о риторичности никогда не находится ни над ней, ни до нее, ни где бы то ни было еще: оно не чуждо риторике.
Именно эту иерархию, это ограничение, эту чистоту, Хайдеггером восстанавливаемую [риторичность не является риторической, мышление о риторике не является риторическим], деконструирует себя, [или] “деконструирует”, как в другом контексте говорит Пол де Ман, “само понятие себя” [и это опять же понятие себя, которое…]. С этого момента всякая деконструктивная мысль конституирует текст, несущий свою риторическую уникальность, фигуру и событие своей подписи, свой пафос, аппарат, стиль обещания и т.д. Текст Хайдеггера также является риторикой — текстуальной риторикой [есть риторика вопроса, с распознаваемыми механизмами, повторениями, правилами]…»
Вармински: Это была бы риторика в совершенно другом смысле, так что…
Пеппер: Верно. Нам надо поговорить о риторике.
Деррида: «…и мы должны быть способными проанализировать ее как таковую. [Я еще немного продолжу цитировать…] Никакой “деконструкции в Америке” не существует без этого отношения к Хайдеггеру [стало быть, без отношения одновременной верности и неверности]. С точки зрения тысяч возможных способов нельзя миновать необходимости всех хайдеггеровских траекторий, нельзя быть к этому мышлению “ближе”, но нельзя и быть от него дальше, как нельзя быть менее гетерогенным (что не подразумевает оппозиции) ему, чем рискуя утверждением такого рода: [здесь я и начал минуту назад] сущность того-то есть это, сущность техники (всё еще) является технической, не существует разрыва или пропасти между мыслящей мыслью или мыслящей памятью (Gedächtnis) и наукой, техникой, письмом (мнемотехникой); или, скорее, удержание, в хайдеггеровской манере, гетерогенности между сущностью техники и техникой (что является, кстати говоря, одним из самых традиционных жестов), между мыслящей памятью и наукой, мыслящей памятью и техническим письмом и является защитой против еще одного глубинного риска — риска паразитической контаминации, ан-оппозитивного различания и т.д. Невозможно было бы переоценить риск и тяжесть этого небольшого предложения (например): сущность техники не чужда технике. По видимости крайне виртуальной, оно может поставить под вопрос, со всеми вытекающими отсюда последствиями, воздействие самого основополагающего философского жеста».
Вармински: Вот именно, это очень сложный жест: одна пропасть защищается от другой. И между ними есть некая асимметрия.
Деррида: Другими словами, если и существует обмен, то он может заключаться только в разговоре друг с другом из одной пропасти к другой. И в том, чтобы другому сказать: «От какой пропасти ты себя защищаешь?»
Пеппер: Что будет, если взять — ландо, есть аппарат, сущность того-то не есть это и т.д., и т.п. — что будет, если мы, сыграв на этом, спросим: Можно ли в режиме мышления, которое является вопрошающей мыслью, помыслить вопрошание, можно ли вопросить вопрошание, какова форма такого вопроса с точки зрения «вопрос Х не мыслит Х»? Может ли вопрошание вопросить вопрос? Что из этого получится?
Деррида: Я бы сказал, что для меня речь здесь идет о том, чтобы помыслить остановку вопроса в вопросе о вопросе. Хайдеггер ставит, причем очень рано, еще в статье «Что такое метафизика?», вопрос о вопросе, так вот, это жест, жесты, ему знакомые. Но интересует меня другой способ остановки этой рефлексии, этого отражения вопроса в самом себе: не в форме вывода, догмы или закрытия вопроса, но в форме его остановки на мысли о возможности вопроса, которая не была бы вопросом.
Не возможности спросить себя, откуда приходит вопрос, но возможности помыслить тот факт, что мы размещаемся внутри пространства — например, внутри отношения к другому, зову другого, в асимметрии, — где вопрос открывается, не может закрыться, он открывается, но у него есть прошлое. Вот так, у вопроса есть прошлое. У вопроса есть прошлое, даже если он никогда не закрывается, даже если мы не можем его остановить и даже если он должен не останавливаться — я не за его остановку, не за остановку в постановке вопросов. Но даже если мы его не останавливаем, мы должны помыслить, что у вопроса есть прошлое, которое вопрошающим не является. Что это за прошлое в таком случае? Новый вопрос будет следующим: что есть это прошлое?
Пеппер: Что есть это прошлое и что сбылось?
Вармински: В каком смысле этот зов другого является предшествующим? Для меня такое предшествование пока что загадочно.
Деррида: Хайдеггер распознает такое «предшествование», в кавычках, не так ли? Вопрос есть ответ. Вопрос отвечает на зов другого.
Пеппер: Но в чем различие между вопросом, идущим от être, бытия, и, если заменить первую букву на «а» — снова «а» — и вопросом autre, другого.
Деррида: Я не понял… «а»?
Пеппер: Ну то есть вы говорите, вы хотите сказать о вопросе другого, autre, а он на самом деле говорит о зове бытия, être, которое зовет вопрос, вопрошание и т.д., и т.п. Так вот, что открывается между запросом бытия, зовом бытия и вопросом другого? Я это плохо сформулировал…
Деррида: Я не уверен, что понимаю ваш вопрос.
Вармински: Это прошлое, которое не является вопрошающим, это прошлое вопроса, которое не является вопрошающим в хайдеггеровском смысле, — как нам его, я не знаю, как нам его определить? Можно ли говорить о «прошлом»?
Деррида: «Прошлое» здесь, конечно, не обладает просто-напросто историческим смыслом или смыслом хронологического первенства. Это значит, что для того, чтобы мы могли говорить или мыслить, другой уже должен существовать. Это «уже» не обязательно является историческим первенством или прошлым, которое было настоящим, отнюдь. Нет. Имеется след другого — так говорит… другой [Левинас]. Имеется след другого в тот момент, когда я вступаю на путь, начиная мыслить или спрашивать. Итак, имеется след другого. Имеется след, и, естественно, след взывает к вопросу.
Но как только мы спрашиваем о следе, мы делаем это по-философски. Иными словами, когда у нас есть опыт следа, то вопрос, к которому взывает след, так сказать, таков: кто это был? откуда он идет? куда он идет? И тогда из следа рождается философия. Философия, если коротко, приключение философии — это приключение вопросов, вызванных следом, структурой следа. След философским не является.
Сам след в каком-то смысле вопросов не ставит. Но ответ на опыт следа является философским вопросом — или же научным — а именно: откуда он идет? куда он идет? Это расследование, не так ли, и, если мы обнаруживаем тривиальную эмблему, мы говорим: хорошо, я иду по песку, я вижу следы шагов, остаток, так, и я говорю: кто был здесь? откуда это здесь? куда ведет? что есть…?
И тогда начинается философия, или расследование, наука, исследование, эпистема и т.д. Но сам след, опыт следа не есть вопрошание. Вопрос приходит после, сразу же вслед за ним. Также мы можем сказать, что опыт следа — это в том числе первоначало и опыт вопроса; это первоначало вопроса. Но чтобы был вопрос, «сперва» (в кавычках) должен быть след.
И так, в этом месте, определить зов, как это делает Хайдеггер, в качестве зова бытия и, следовательно, ответа как ответственности перед этим зовом бытия — значит это бытие предполагать, бытие : след (не «есть», но бытие, двоеточие, след, «бытие : след»), чего Хайдеггер не делает, по крайней мере эксплицитно, — а также это значит определять бытие в качестве присутствия настоящего, и тогда это уже означает стирание структуры следа.
Итак, я уверен, что у Хайдеггера есть и то и другое; я уверен, что текст Хайдеггера не позволяет нам сказать: он делает скорее одно, чем другое, он стирает след… Но происходит и то и другое. Два жеста не являются в точности одним и тем же, и, поскольку я здесь, поскольку я решил поверить вам свои колебания, скажем, что я захвачен здесь между двумя этими движениями у Хайдеггера. Есть жест определения бытия в качестве присутствия, присутствия настоящего.

Так что это присутствие не является просто следом — хотя определенное чтение присутствия настоящего может превратить его в след, т.е. может рассмотреть его, дойти до того, чтобы определить его как след, так как присутствие не есть настоящее, присутствие не есть нечто присутствующее, а значит у него есть нечто от структуры следа. Но есть и другие хайдеггеровские тексты, которые ближе к мысли о черте или следе, чем те, в которых он говорит скорее о присутствии настоящего. И, по сути, я сам ищу — я бы не сказал, ищу свой путь, свой след и т.д., — я нахожу себя, я нахожу себя внутри, когда читаю Хайдеггера, внутри этой неустойчивости.
Левин: Да, и в этом контексте вы использовали слово, если я правильно понял, affirmation, утверждение. Каким образом функционирует утверждение с учетом того, что оно не является вопрошанием? Я этого не понял. Вы предлагаете утверждение как отношение, позицию, я не знаю…
Пеппер: …габитус, на самом деле…
Левин: …которые являются альтернативой вопрошанию?
Деррида: Нет. Не альтернативой, нет. Чтобы утверждение, о котором я говорю — я попробую сказать о нем больше в дальнейшем, — чтобы утверждение, о котором я говорю, не было догматическим суждением, закрытием вопроса…
Неустановленный голос: Мы можем остановиться на секундочку?
Кассета 1, сторона Б
Неустановленный голос: Это техника… которая мыслит!
Деррида: Чтобы утверждение не было выводом, суждением или мнением, доксой, оно должно быть открыто вопросу, вопросом проработано, вопросу доступно. Таким образом, утверждение здесь не есть нечто отличное от определенного опыта вопроса. Но оно заключается, не будучи и субъективным отношением, оно состоит в том, чтобы сказать: «Я принимаю» — постойте, дайте я переведу, «принимать» не то слово. Оно состоит в том, чтобы сказать, если я, например, говорю: «Вопрос необходим», «лучше спрашивать», вот это «лучше» и есть утверждение.
И я говорю: «Да, лучше спрашивать, и снова будет лучше спрашивать» — утверждение должно повториться. Когда я говорю «да», это значит, что я предпочитаю это, чем ничто, и я есть, я в свою очередь волю́ этого — в ницшевском смысле этого термина. Я волю́ этого в свою очередь. Таким образом, воспроизводя здесь эту схему, которую я попытался разработать, например, в тексте, посвященном Джойсу [«Улисс граммофон»], я бы сказал, что такое утверждение — и это позволяет мне связать тему утверждения с тем, что мы выше говорили о паразитировании и контаминации — утверждение должно, чтобы сработать в первый раз, беспрестанно повторяться, обновляться. А значит, оно должно с самим собой заключить контракт.
Когда я говорю «да», скажем, перформативно, перформатив «да» должен подтвердить «да» при помощи второго «да». Иначе «да» не есть «да». Таким образом, «да» в своей структуре всегда заранее является удвоенным. Оно удваивает себя. Как только оно себя удваивает, оно должно пообещать память о самом себе.
И это обещание памяти о самом себе уже является повторением, а значит угрозой техники, паразитирования, восполнения. И с того момента, когда это скорее утверждение, нежели вопрос — я говорю скорее об утверждении, чем о вопросе, так? — тогда я принимаю риск контаминации, а также риск, против которого нет защиты. Потому что «да» — это всегда «да, да». «Аминь, аминь».
Вармински: След на песке, это… В каком-то смысле задавая о нем философские вопросы — «откуда он пришел? что он есть?» и т.д., — можете ли вы сказать, что такие философские вопросы должны защищать себя от удвоенности этого «да»? Не знаю… Говоря в выражениях де Мана, можно было бы сказать, что, каким бы ни был этот след, чтобы из него родились философские вопросы, они должны игнорировать тот факт, что им приходится принимать решение по поводу своего риторического режима.
Другими словами, чтобы задавать вопрос вроде «что он есть?» и т.д., они предполагают, что мы знаем, стоит ли след в кавычках или нет, следует ли его понимать буквально или фигурально, идет ли речь о вопросе или ответе и т.д., след ли это или нечто совершенно другое… Сперва нужно принять решение насчет риторического режима, и я полагаю, в выражениях де Мана, именно здесь вступает в игру определенная техничность, которая должна быть вытеснена, чтобы мы могли задавать философские вопросы. Не обязательно…
Деррида: Хорошо, только дело не в этом, дело не в решении.
Вармински: Как так? Я не знаю…
Деррида: Нет, что-то должно решиться, решиться заранее, но это не решение. Это не решение мыслителя. Что-то, что в самом деле было… было определено, я бы сказал, скорее, чем решено. Определено заранее, вот так.
Вармински: Правильно, и Хайдеггер очень осторожен, когда у него всплывает термин «решение». Это никогда не решение, которое кто-то принимал бы или даже принимала бы мысль — это решение, в которое вы оказываетесь введены. Hölderlin stellt uns in die Entscheidung… вводит нас в решение. Эпохальное решение, которое оказалось решено, я не знаю…
Деррида: Эпохальное, да, мы еще поговорим на тему эпохи, это другая нить…
Кинан: Возможно ли всё-таки мыслить онтологическое различие как некоторую мысль о неизбежной контаминации, загрязнения чистоты… ну то есть это и то и другое. Он настаивает на абсолютном различии между бытием и сущим, но говорит, что нет никакого бытия, которое бы не скрывалось за сущим. Так вот, поэтому разом есть абсолютная уникальность бытия, Sein, и его неизбежное и абсолютно необходимое сокрытие за сущим, так что…
Деррида: Да, я полностью с этим согласен. Естественно, если бы вы стали обсуждать контаминацию с Хайдеггером, он бы сказал две вещи. Во-первых, он бы сказал, что контаминация является схемой онтической, можно говорить о контаминации между двумя сущими, двумя объектами, двумя телами, чистым (propre) и грязным телом и т.д. Но так как бытие есть ничто, нет и вопроса о том, чтобы оно было контаминировано, загрязнено сущим… Поэтому это расхожая метафорическая схема. Итак, это первый ответ.
Второй ответ в том, о чем минуту назад вы напомнили, а именно: нет, конечно же, и вопроса об ограждении бытия от сущего, как если бы нам нужно было защищать одно сущее от контаминации другим сущим. Так вот. Речь не об этом. Напротив, поскольку бытие — и он всё время об этом напоминает нам — постоянно скрывается за сущим, поскольку его режим самораскрытия заключается в сокрытии, «то, что я зову “контаминацией”, это то, что я, Хайдеггер, объясняю всё время, что постоянно… в этом и состоит история… что бытие контаминируется… скрывается…».
Да, но что — мы здесь полностью согласны друг с другом — но что я хотел подчеркнуть, так это то, что выбор фигур — сокрытость/несокрытость вместо контаминации — не является чем-то несущественным. И, если мы говорим, что бытие сокрыто, то это, возможно, всё еще способ защищать его нередуцируемую первоначальность: даже если оно ничто, в той степени, в которой оно ничто, оно даже больше ограждено от контаминации, разве нет? Даже если оно постоянно сокрыто сущим, или за сущим, его ничтойность, так сказать, его онтическая ничтойность и, более того, фигура сокрытия — да, он неслучайно говорит о сокрытии — фигура сокрытия является фигурой защитной.
Оно закрыто. В то время как я, говоря о контаминации, имею дело со схемой чистоты, да, это другая сцена. И в итоге это сводится к тому, чтобы сказать, что бытие есть сущее. Для меня сказать так — вещь очень серьезная, потому что я в каком-то смысле всегда был на стороне Хайдеггера против этого, ээ… Но для меня это происходит в опоре на подозрение — на ницше-фрейдовского типа или стиля подозрение, — а именно подозрение по отношению к этому фундаментализму, этой воле к чистоте, которую я всегда подозреваю в худшем, потому что знаю, что чистота, худшее всегда уже здесь. Именно в опоре на анализ такой защиты чистоты я пришел к тому, чтобы говорить скорее о контаминации, нежели о сокрытии.
Пеппер: Я бы хотел вернуться к тому, что вы сказали в конце, обратившись к контаминации и чистоте, в связи с вопросом о вопросе, о вопрошании вопроса. Ставя вопрос о риторике ограждения, чистого и прочного, Сократа как чистейшего западного мыслителя, каким образом можем мы пробраться, проникнуть в центр проблемы неизбежной техники, необходимой в вопрошании о вопросе, просто используя эти слова? А это значит спрашивать, почему мы спрашиваем о чистоте и почему мы беспокоимся о том, что нам следует ставить эти вопросы с учетом определенной техники, определенной истории устройства, техники…
Вармински: Да, сокрытие опирается на мысль о ничто, ничтойности, Nichts, но после контаминации, если имеется Nichts, оно совершенно отлично, не так ли?
Деррида: Да. И всё же, всё же лично я не готов отказываться от этой мысли о ничто и всего, что она… Вот почему я так сильно настаиваю на статусе вопросов, которые я здесь выдвигаю, или замечаний, которые я здесь подчеркиваю, которые не являются для меня вещами навсегда установленными или…
Пеппер: …в вопросе…
Варвински: …в ходе…
Пеппер: Не хотите ли вы продолжить разговор о третьей и четвертой нитях?
Деррида: Мы попробуем. Остановите, остановите ненадолго. Я бы хотел… [Запись прерывается и продолжается:] Итак, третья нить касается хайдеггеровских размышлений о живом и животном. Я не хочу возвращаться к тому, что я предложил в связи с животным и рукой, обезьяной в докладе, который большая часть присутствующих здесь уже слышала в Эссексе.
В этой перспективе я бы хотел указать на все знаки неудобства, которые Хайдеггер подает всякий раз, когда вопрос заходит о живом и животном. Как известно, тема эта в его работе является навязчивой — его противостояние философии жизни (Lebensphilosophie). Таким образом, здесь нужно было бы предпринять целый анализ исторической, а также политической ситуации…
Пеппер: Погодите секундочку. Прошу прощения, батарейки… Извините…
Деррида: Итак, я не стану возвращаться ко всему тому, что могло побуждать его исторически и политически противостоять философии жизни, будь то в текстах Ницше или других, у кого он постоянно пытается, как бы это сказать, дискредитировать мышление философии жизни. Но какими бы ни были основания, веские причины его критики или деконструкции, я бы хотел понять, не разрушает ли тем не менее вопрос о живом большую часть его анализа и понятийных различий. Отделить здесь вопрос о животном от вопроса о живом, естественно, трудно.
Я, в частности, имею в виду его лекционный курс, изданный в 29/30 томе [«Основные понятия метафизики»], где речь идет о животном в главе… где-то в разделе 45, где он выдвигает тот самый тезис, согласно которому «das Tier ist weltarm». Это очень трудно перевести: «Животное скудомирно». Там есть очень пространное рассуждение, в котором он показывает, стремится показать, что камень безмирен, человек weltbildend (я пытаюсь найти это…): der Mensch ist weltbildend, der Stein ist weltlos, aber das Tier ist weltarm.
И дальше следует пространный анализ того, чем является эта скудость в качестве нехватки — там стоит слово Entbehren, я уверен… да, это так, Entbehren, Armut — «Nichthaben im Habenkönnen»: животное обладает миром, им не обладая. Именно эту скудость, которая, как вы видите, не сводится просто-напросто к вопросу о степени, он пытается проанализировать. И если бы ситуация к этому располагала, если бы у меня было время, я бы подробно проанализировал все затруднения, с которым сталкивается Хайдеггер, определяя эту промежуточную ситуацию животного между камнем и человеком — двусмысленность, которая отнюдь не является оригинальной и воспроизводит старую понятийную машинерию. И его критика, способ, которым он восстанавливает все… Ладно, довольно, давайте рассмотрим два момента, на которых я сосредоточусь в своем размышлении.
Первый момент: в первую очередь Хайдеггер пытается оградить мысль о животном от зоологии. Зоология предполагает мысль о животном, но мы не можем ожидать от зоологии, от зоологической науки определения животности. Иными словами, здесь он воспроизводит классический жест, который, между прочим, обладает большой силой и не меньшей необходимостью и заключается в том, чтобы рассматривать науки в качестве регионов, в пределах которых сами ученые не мыслят сущность того объекта, с которым имеют дело.
Именно философ, или метафизик, или мыслитель мыслит сущность — физического для физиков, живого для биологов и зоологов и т.д. Таким образом, здесь перед нами воспроизведение классической схемы подчинения, во-первых, онтического онтологическому, а также региональных онтологий — онтологии фундаментальной. Текст Хайдеггера этот жест воспроизводит, я попробую найти соответствующий отрывок… Вот он:
Woher stammt dieser Satz: das Tier ist weltarm? Wir werden wieder sagen: aus der Zoologie, denn sie handelt von den Tieren. Aber gerade weil sie davon handelt, kann dieser Satz nicht Ergebnis ihrer Untersuchung sein, sondern deren Voraussetzung. Denn in dieser Voraussetzung vollzieht sich am Ende eine Vorausbestimmung dessen, was überhaupt zum Wesen des Tieres gehört, d. h. Eine Umgrenzung des Feldes [и т.д., и т.п.].
[Откуда исходит положение, гласящее, что животное скудомирно? Мы снова скажем: из зоологии, потому что она имеет дело с животными. Но именно потому, что она имеет дело с ними, это положение является не результатом ее исследования, а его предпосылкой. Ведь в этой предпосылке в конечном счете совершается пред-определение того, что вообще принадлежит к сущности животного, т. е. происходит очерчивание той сферы и т.д. — Цит. по: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир — Конечность — Одиночество. А.П. Перевод Шурбелёва, стр. 289.]
Итак, первый момент: он притязает, выступая против как зоологов, так и философов, на то, чтобы подтвердить, что мышление о сущности животного не исходит из зоологии. Давно уже, еще в «Грамматологии», я попытался бросить подозрение на это положение.
Второй момент, и я подчеркиваю его, так как он возвращает нас к вопросу о различии. Разбирая это Entbehren или Weltarmut животного… в скобках (не надо это записывать), что значит Armut? Он ведь много играет на этом Armut, как вы Armut переводите?
Несколько голосов одновременно: «Poverty».
Деррида: «Poverty», ладно. Хорошо, ведь он здесь очень много играет на Mut, что вы на этот счет думаете? (Не надо это расшифровывать.)
Неустановленный голос: Этот перевод сомнителен: если там есть некая этимологическая игра, то это сомнительный перевод.
Деррида: Да, ведь там есть целый пассаж о Mut — отлично, это не так важно, не расшифровывайте эту часть, хорошо?… Итак, в ходе анализа Weltarmutи Entbehren, животного, которое обладает миром, но не bildet, не строит свой мир, а потому скудомирно, скудость которого не сводится к вопросу о степени, Хайдеггер в итоге определяет различие между Weltarmut и Weltbildung как различие между тем (человеком), кто мыслит вещи как таковые — als, это als, это история про как, про как если бы, als ob,— и животным, у которого нет отношения к миру или вещам как таковым в их целом.
Приводится целый ряд примеров: когда ящерица лежит на камне или воспринимает солнечные лучи, у нее есть опыт этих вещей, но не как таковых. У нее нет отношения к солнцу как таковому. Тогда как человек относится к солнцу как таковому. Отсюда становится ясно, что всё лежит на уровне этого различия между «как таковым» и «не как таковым». Естественно, всё, что я попытался развить в своей лекции — я не буду к этому возвращаться — по поводу дара, руки, обезьяны и т.д., сводится к этому, так? Именно возможность «как такового» делает возможным, открывает дар, на что оказывается способным лишь человек. Хорошо.
Итак, что такое «als»? Это возможность феноменологии, возможность явленности сущности как таковой, это возможность онтологического различия. И если сущность бытия раскрывает себя только через свое сокрытие, что тогда означает для сущего быть неспособным на опыт «как такового», т.е. раскрытия сущности? Ведь если «als» никогда не является чистым и для человека — когда нечто явлено как таковое, не только это «как таковое» также скрывается, оно захвачено обязательно техническим, манипулятивным, жизненным контекстом, так что мы возвращаемся к вопросу о контаминации: нет вопроса о том, чтобы избежать, как бы это сказать, настоятельности жизни, техники и проч., — то, что явлено как таковое, в таком случае немедленно скрывается или подвергается контаминации.
Таким образом, здесь различие между человеком и животным является не линией разрыва между «как таковым» и «не как таковым», а еще одним режимом различаний — во множественном числе — без оппозиции. Во-первых, не существует животности в единственном числе — по сути, вопрос, который я здесь поставил бы, это вопрос права говорить о животности в единственном числе. Я не знаю, что… Существует ли одна животность? Потому что весь этот вопрос целиком предполагает, что существует одна животность. Иными словами, между… Он приводит несколько примеров: между примером простейших, простейшие и человекообразные обезьяны одинаково относятся к животным. Камень — это уже нечто другое…
Итак, он в любом случае отталкивается от предпосылки сущности живого, несмотря на всё, что он в этом тексте говорит о различии между живым и физико-химическим… он предполагает, что существует единство живого, что он может говорить о сущности живого и животного. И здесь, я уверен, проводя систематический анализ всего, что у Хайдеггера связано с жизнью и живым, мы будем регулярно сталкиваться с тем, что — как бы это сказать? — с тем, что сводит на нет всю его понятийную убежденность, все его разграничения. Таким образом, я здесь говорю о программе исследования жизни у Хайдеггера. Оно бы покрывало практически все его тексты.
Пеппер: Можно ли провести сравнение между человеком (der Mensch ist weltbildend) и das Tier ist weltarm, и обсудить bilden из weltbildend, чтобы можно было сложить третью нить с вопросом о технике — Bildung, Bild, постав и т.д., и т.п. — и тем самым связать мысль о животном, опять-таки необходимую, абсолютно необходимую, с мыслью о технике?
Деррида: Да, да, конечно, все эти вопросы связаны между собой, как и с вопросом, который я ставлю: о том, что для человека является собственным. Итак, обсуждай мы всё это двадцать часов, стало бы совершенно ясно, что нити эти являются стратегическими и что они вбирают в себя всё. Но именно поэтому я не напоминаю, например, о вопросах, которые я пытался поставить в других местах — о человеке, о том, что является его собственным у Хайдеггера и т.д…. Поэтому я располагаю себя исключительно там, где я, не знаю, где эти тексты, я их только недавно открыл для себя, я не знаю их достаточно хорошо, и я бы хотел продвинуться в этом направлении дальше.
Так вот, следует ли нам всё же попытаться пройти весь путь до конца?… Надо ли мне заканчивать на четвертой нити?…
Неустановленный голос: Да, замечательно.
Деррида: Если мы еще раз встретимся, мы можем попытаться связь вместе… Ладно, последняя нить — хотя мы уже, кстати говоря, можем видеть, как всё связывается воедино — касается эпохи, эпохальности. Это хорошо согласуется с тем, что мы обсуждали выше: каким образом Хайдеггер мыслит эпоху? Речь идет о мысли о подвешивании, epechein, за счет которого бытие удерживает себя в самопоказе. Так вот. Эпоха — это движение, в котором бытие — я не скажу «определено», это не хайдеггеровский язык, но — дается в опыте, его скрывающем, это движение, в опыте которого оно должно себя удерживать или удерживать себя про запас, да, удерживать себя про запас, себя показывая.
Поэтому эпоха, очевидно, это не некий период времени. И Хайдеггер не представляет эпоху в качестве серии периодов внутри истории. Всё это хорошо известно, я не буду к этим вещам возвращаться. Вместе с тем в его формулировках есть некоторая двусмысленность, которая предполагает, что, даже если всё так и есть, даже если эпоха не есть исторический период, мы тем не менее имеем дело с великими… с великими ассамбляжами, которые не являются целокупностями, но всё же являются собирающими, подчиненными одному смыслу.
Каждая эпоха обладает — я не стану употреблять здесь слово «принцип», но ладно… — определенным смыслом собирания, собирания определенного смысла. Поэтому, даже не останавливаясь на том, как эпохализация может восстанавливать телеологический рассказ — это легкая редукция, на которой я не стану останавливаться, но несмотря ни на что, несмотря на отказы, которые совершает Хайдеггер, это всё же могло бы позволить нам подумать, что здесь есть некоторый историцизм, а также некоторый рассказ, как бы Хайдеггер этого ни отрицал — я не стану на этом останавливаться.
Я лишь укажу на неудобство, которое я испытываю всякий раз, когда Хайдеггер вынужден форсировать события, чтобы собрать смысл — я не говорю о «единстве», поскольку речь не идет ни о единстве, ни о тождественности, я вместо этого говорю о «собирании» — чтобы собрать смысл эпохи.
Позвольте привести пару примеров. Первый связан с хорой. Я не стану проделывать здесь важную работу анализа, я лишь изложу принцип этого беспокойства. В «Введении в метафизику» Хайдеггер делает отступление, предполагая, что Платон, определяя бытие как идею, тем самым определяет хору как нечто такое, что подготавливает почву для картезианской res extensa. Иными словами, по Хайдеггеру, в платоновской эпохе бытия как идеи уже есть первое сокрытие и объявление другой эпохи. При таком выборе Хайдеггер читает хору определенным образом и в какой-то степени отдает предпочтение всему, что в хоре принадлежит платонизму, господствующему платонизму.
Но как только мы станем читать хору иначе, а я полагаю, что мы можем это сделать, а именно как момент, где нечто сопротивляется конвенциональному платонизму, где нечто сопротивляется, например, определению бытия как идеи, сопротивляется оппозиции чувственного/умопостигаемого, то не обнаружится ли в таком случае «внутри» — «внутри» в кавычках — платоновского текста или платонизма нечто такое, что не позволяет отнести себя к эпохе, к тому, что Хайдеггер называет «эпохой»?
Так что интерпретационное решение Хайдеггера — если не считать, что против него всегда можно выдвинуть другое — интерпретационное решение здесь заключается в принуждении, вписывающем в эпоху то, что такому вписыванию, возможно, не поддается. Итак, что есть эпоха, если некоторая гетерогенность всегда может ее сместить? Конечно, в других случаях Хайдеггер эту гетерогенность распознает. Но он всегда интерпретировал ее в порядке практически индивидуального и даже, так сказать, психологического. Он говорит, например: Кант испугался того, на что он намекал в первом издании, и отпрянул… В таком случае это означает, что (если мы это перенесем) можно сказать, что Платон что-то заметил и тут же быстро закрыл это снова.
Но почему, например, Хайдеггер не приписывает Платону жест, который он приписал Канту, и почему не могут в каждой «эпохе» в хайдеггеровском смысле обнаружиться — не-линейные, не-последовательные — движения, которые как раз таки оспаривают самотождественность эпохи? Если такие движения возможны и если, сделав интерпретационное решение, мы можем их выявить или пробудить — что ж, это очень серьезный вопрос, к которому мы можем вернуться во время обсуждения — в этом месте, это значит, что единство, принцип собирания эпохи никогда не дан, что нет никакой преемственности, иными словами, что то, что происходит у Платона, возможно, является чем-то более современным, чем…
Итак, от этого беспокойства мы обращаемся, мы возвращаемся к самому принципу эпохализации, т.е. к этому движению сокрытия, раскрытия. И жест, подобный тому, на который я намекаю в связи с хорой, не есть просто раскрытие сокрытого или сокрытие раскрытого, но обладает иной структурой.
Второй пример, который я приведу — и на этом мы, к сожалению, вынуждены будем на сегодня остановиться — такой: он взят из курса лекций, который Хайдеггер посвятил «принципу достаточного основания». Я попытался разобрать этот текст в других местах [см. «Университет глазами его питомцев»], сегодня же я лишь скажу следующее: всё организовано по принципу достаточного основания так, как это сформулировал Лейбниц и интерпретировал Хайдеггер.
Это эпоха, в которой господствует субъект-объектное отношение как отношение представления, репрезентации, это Gestell, соучастие субъект-объектной репрезентативной структуры и господства над природой, картезианской достоверности, современной техники — так вот, это целая эпоха, которая определяется в опоре на принцип достаточного основания, на его определенную интерпретацию. Это закреплено Лейбницем, в лейбницевской формулировке принципа, который в самом деле оказывается опорой для хайдеггеровского прочтения этого «основывания».

Хорошо. Итак, получилось так, что на протяжении той же самой эпохи (слово «эпоха» используется здесь в расхожем смысле), того же периода, по соседству, в некоем историческом соседстве, скажем так, был кое-то, кто, отнюдь не являясь иррационалистом, во имя разума (raison) предложил мышление, которое не является ни мышлением о субъекте, ни мышлением о представлении, ни мышлением о принципе достаточного основания (raison), который бы управлялся целевой причиной — вы знаете, что для Лейбница принцип достаточного основания абсолютным образом связан с привилегией, отданной целевой причине.
Итак, Спиноза — поскольку о нем у меня и идет речь — был тем, кто яростно критиковал всякий финализм, кто определил идею как не-репрезентативную — такова была его критика Декарта: идея не есть копия; у Спинозы идея как раз таки утвердительна (affirmative): это утверждение, не являющееся воспроизведением или репрезентативной копией.
Его философия не была ни философией достоверности, ни философией субъекта, ни философией представления, ни финалистской философией. И всё же он был рационалистом. Великим рационалистом. Которого Хайдеггер почти никогда не цитировал. А когда цитировал — насколько мне известно, один или два раза, — то в традиции Шеллинга, по крайней мере он воспроизводил — очень кратко — характеристики немецкой философии начала XIX в.
Таким образом, опять-таки, что означает молчание Хайдеггера относительно мышления, которое не вписывается в собирание эпохи? Мы могли бы найти другие примеры, да: Плотин, даже в некоторой степени его истолкование христианства. Итак, это, очевидно, приводит меня к тому, чтобы, учитывая всё, что было сказано выше об «als», различании и т.д., продолжать оставаться в недоумении, скажем так, перед этой мощной, но при этом весьма убедительной эпохальной организацией.
Вот. Я думаю, мы здесь сегодня должны остановиться. Нет, я должен… у меня встреча… А, я останавливаю вас, я блокирую здесь ваши вопросы…
21 апреля, кассета 2, сторона А
Кинан: Удалось ли вам сказать всё, что вы хотели сказать по двум последним темам? О животном?
Деррида: Нет, конечно. Мы могли бы продолжать еще очень долго. О животности, в частности, следовало бы, будь у меня время на проработку, высказаться точнее, следуя за текстом лекционного курса из 29/30 тома, где речь идет о Armut, Entbehren, о пропущенном «als» — а магнитофон записывает?
Неустановленный голос: Всё работает.
Деррида: Для меня три трудных пункта в этом анализе животности — это, с одной стороны, скудость… Хотя Хайдеггер никогда не приписывает ему значение степени, скудомирие не означает, что камень беднее, а человек богаче. Таким образом, что значит «скудный»? К какой семантике Хайдеггер отсылает, говоря о скудости? Семантика эта по необходимости является человеческой. То есть захвачена порядком Weltbildung, то есть человеческим отношением к миру. Что значит скудость, которая бы определяла… скудомирие, то есть не скудость в том или этом, так? Животное скудомирно. Такое скудомирие не есть скудость, которая бы выстраивала отношение животного с тем или иным предметом, это не нехватка чего-либо, это нехватка мира.
Хайдеггер вполне мог бы сказать нам, что он описывает ситуацию, не обладающую степенью, предполагая, что скудость эту — он предполагает это имплицитно, т.е., насколько я знаю, не говорит напрямую — скудость эту не следует мыслить в опоре на человеческие схемы, т.е. исходя из Weltbildung, и всё же у нас складывается впечатление, что это понятие является артефактом, который очень трудно сконструировать. Оно сконструировано, однако ему, как мне кажется, не хватает строгости. Я не совсем понимаю, что оно означает.
Это, очевидно, перевод, эта значимость скудости является не-диалектическим переводом «имения-не-имения» мира, так как дальше он говорит, что «камень не имеет мира», «животное имеет мир в режиме не-имения». «Имение-не-имение» и есть то, что он здесь зовет скудостью. Но является ли эта категория оригинальной? Рассматривается ли животность оригинальным образом? Что касается мира — мира человеческого отношения в целом, — можем ли мы говорить о таком «имении-не-имении»?
Иными словами, не является ли это скудомирие проекцией — я не скажу «антропоморфной», потому что… ну да, мы можем назвать ее «антропоморфной», так как он не говорит о Dasein, он в связи с Weltbildung говорит о Mensch — так не является ли это антропоморфной проекцией и не вписывает ли он животность в шкалу и телеологическую историю того типа, которого он пытается избежать, а именно: что животное является чем-то опять-таки средним между материальным — в одном месте в связи с камнем он говорит о «материи», — между материальным и духовным, или логосом, или…
Очевидно, сама структура такого анализа — а именно: что есть три положения — даже демонстрационная структура, или показ (есть три положения, и животное занимает среднее, а именно в середине образуется опосредование, да, которое заимствует один предикат с одной стороны и еще один — с другой: подобно камню оно лишено мира, подобно человеку оно обладает миром), я нахожу эту ситуацию опосредования весьма классической.
Сколько бы он ни говорил, что она не является диалектической — а он в этом месте делает замечание против диалектики, — она очень, очень классическая, в частности она связана с… С одной стороны, это устанавливает животное в качестве человека минус что-то: оно не имеет того мира, который имеет человек.
Оно стоит на пути к человеку, поскольку находится на промежуточной стадии, и рассматривающий его дискурс — это дискурс промежуточного положения. Но меня прежде и больше всего волнует следующее: то, что таким образом характеризуется в качестве сущности животности, относится к животности вообще. То есть здесь нет попытки выявить различия внутри самой животности. Поэтому, что бы он ни говорил о том, что понятие, сущность животности не является производной от зоологической науки, но, напротив, ею подразумевается, является предпосылкой зоологической науки, поэтому и не может выступать в качестве результата зоологического знания, — он спокойно может говорить об этом, но, когда он говорит о животности вообще, он, на мой взгляд, некритически допускает две вещи.
С одной стороны, единство зоологии как дисциплины: есть зоология, всегда была, а значит ей как единой дисциплине должна соответствовать сущность животного, и задача философа — или, я не знаю, метафизика — дать ей строгое описание: метафизик зоологом не является. А с другой стороны, единство этой дисциплины знания было сконструировано, разумеется, в опоре на метафизику. И эта метафизика, которая предполагает, что существует нечто вроде животного вообще, животность, никогда не подвергается обсуждению. Таков постоянный жест. Он совершает тот же жест в отношении психологии, физики.
Так что, если бы нам пришлось разрабатывать этот дискурс, я бы сделал это на уровне онтологического вопроса, отношения между общей онтологией и региональными онтологиями, а также на институциональном уровне, включая его связь с универсальностью. Другими словами, есть разделы, дисциплины, и всё это происходит — а это 1929-30 гг. — когда он еще не… Следовало бы учесть эту дату, дабы прочитать его текст с институциональной точки зрения. Ведь это любопытно, что он (возможно, я ошибаюсь, поскольку я, конечно, не знаком со всеми текстами Хайдеггера, которые еще не опубликованы) никогда, насколько я знаю, впоследствии не возвращался — с такой терпеливостью, с такой педагогической медлительностью — к вопросу животности в этой форме. Есть более поздние упоминания: обезьяна, рука, ну вы знаете…
Вармински: Я не знаком с контекстом, но нет ли у него попыток соотнести всё это с In-der-Welt-Sein Dasein’а и всем, что с этим связано, с сущностной конечностью, если предположить, что у животного в каком-то смысле нет опыта смерти, оно не является бытием-к-смерти и т.д.?
Деррида: Контекст — подготовка анализа понятия мира, одиночества — всё это, естественно, сильно связано с «Бытием и временем», всё это подготавливает анализ бытия-в-мире, конечности и проч.
Пеппер: Даже способ, сама форма позиционирования животного — это середина середины…
Деррида: Здесь мы снова встречаемся с вопросом о жизни, о живом наконец, которое также является чем-то срединным между физико-химической, инертной материальностью и духом — поскольку Хайдеггер всегда говорит о духе, даже в поздних работах… Вполне классически. Скажем так, если бы мне нужно было это разрабатывать, я бы соотнес всё это с Гегелем, например, с мыслью о жизни, со всеми философиями жизни, против которых он никогда не прекращал восставать и, так сказать, негодовать, но смещения которых он на самом деле не произвел… В любом случае есть, по-моему, здесь нечто такое, что остается весьма традиционным.
Так вот, возвращаясь к тому, с чего я начал пару минут назад — к вопросу животности как среднего, как чего-то третьего, как среднего термина посредине, между материей и духом. Животность, которая не есть в мире, во всяком случае не так, как камень есть в мире, почему он и говорит, что животное обладает миром, животное не есть в мире так, как камень есть в мире, оно не объект в мире: животное обладает миром, и даже простейшие миром обладают. Но в то же время, оно не обладает миром, человеческим миром, то есть… Да, так вот, как нам следует охарактеризовать тот мир, которым оно не обладает?
Оно не обладает доступом к бытию как таковому, к сущему как таковому: ценность доступа к тому, что есть как оно есть — als Sein. Вот где располагается нехватка. Оно не обладает этим миром, ценностью мира — мира, в котором возможен доступ к тому, что есть как оно есть. Животное обладает доступом к вещам, то есть у него есть отношение к солнцу или теплому камню: ящерица лежит на теплом камне, но только не как на чем-то, что есть.
Именно это «как» образует ее нехватку. Это означает, что животному не хватает феноменальности как таковой, а значит возможности феноменологии. Вещи животному явлены, но оно не явлены так, как они явлены. И именно это als образует все различия между животным и человеком. То же самое относится к смерти: животное не обладает отношением к смерти как таковой…
На это нечего возразить, всё это необязательно ложно. Но, с одной стороны, это заново вводит абсолютно, абсолютно классические понятийные установления, разграничения и подразделения. На это делается ставка — при том что он утверждает, что отграничивается от научного знания, чтобы пойти глубже или раньше, — здесь воспроизводится, предполагается научное знание в его традиционной форме, так? Несколько ссылок на собственно зоологические рассуждения — на Икскюля и проч. — крайне бедны, на мой взгляд, да, я не знаю, я здесь ничего нового для себя не нашел… Так вот, здесь есть место вопросам.
Левин: Один из способов установить различие или нехватку, которая конституирует отличие животного от человека, — это вспомнить о том, как Хайдеггер говорит, что человек есть сущее, в бытии которого дело идет о самом этом бытии или для которого бытие является вопросом. Так что в каком-то смысле именно нехватка возможности вопроса конституирует…
Деррида: Да, так и есть. Так вот, он не говорит здесь об этом в такой форме, но именно об этом и идет речь, именно это с самого начала подразумевается, а это, как вы верно отметили, ведет нас обратно к вопросу о вопросе. Животное не задается вопросами. Итак, сказать, что оно не задается вопросами — что это означает? Это позволяет нам определить, что такое вопрос. Животное не задается вопросами, Хайдеггер показывает, что животное ищет путь, колеблется между двумя путями, ищет добычу и т.д., а значит оно по-своему исследует, ищет, вынюхивает следы, разыскивает.
Но оно не задается вопросами о том сущем, которое оно ищет. Его вопросы, стало быть, не есть вопросы об этом als, о сущности того, о чем оно спрашивает — ну или, самой собой, о своей собственной сущности. Как и о сущности вещей в принципе. Итак, вопрос, то, что превращает хайдеггеровский вопрос в достоинство, не есть просто вопрос сам по себе, на который животное способно — это вопрос о бытии. Это вопрос о сущности, да. Итак, именно онтологическое различие, т.е. различие между бытием и сущим, определяет сущность хайдеггеровского вопроса. В пределе, стало быть, мы можем сказать, что, когда Хайдеггер отдает привилегию вопросу, о которой у нас речь шла в тот раз, он делает это, предвосхищая вопрос как вопрос онтологический.
Именно онтологическому вопросу он и отдает таким образом привилегию. Но если мы не отдаем привилегию онтологическому различию, если мы не принимаем его как нечто самой собой разумеющееся, то на этом уровне те вопросы, которым Хайдеггер отдает привилегию, по отношению к другим вопросам привилегии иметь не будут — вопросам о жизни или смерти, вопросам о технике, вопросам о том, как искать пропитание и проч. Что отделяет животный вопрос — назовем его так — от вопроса онтологического? Это опять-таки, я уверен, теоретическое.
То есть незаинтересованный вопрос. Вопрос относительно als, который при этом как таковой подвешивает нужду, практику, отношение пользования, инструментальное отношение. И здесь я бы хотел понять, независимо ни от чего, независимо от всех предупреждений Хайдеггера насчет оппозиции теории/практики, несмотря на всё это, я бы хотел понять, не является ли привилегия, которую я бы назвал теоретико-феноменологической привилегий als, тем, что сохраняет или гарантирует, так сказать, вопрошание привилегии — в той форме, в которой ее дает Хайдеггер.
Вармински: Небольшое примечание. Оно, наверное, не сильно поможет. Я за всем этим отчетливо слышу литературный источник, а именно Рильке, в частности его «Восьмую элегию», где проводится различие между das Tierи нами, человеческими существами. Das Tier видит das Offene, открытость, и это предположительно означает, что, раз оно не знает смерти, у него нет темпоральности, тогда как мы оглядываемся, мы всегда видим смерть, а не das Offene и т.п. Но такое псевдо-… или такое весьма классическое различие между животным и человеком проходит, я думаю, через весь корпус Рильке. И Хайдеггер цитирует известный отрывок, посвященный животному и человеку в своем «Wozu Dichter?», написанном гораздо позже, в 1946-47 гг.…
Пеппер: Не только «Восьмая элегия», но и «Первая», где есть такие строки:
<…> Ach, wen vermögen
wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht,
und die findigen Tiere merken es schon,
daßwir nicht sehr verläßlich zu Haus sind
in der gedeuteten Welt.
[Ах! В ком нуждаться мы смеем?
Нет, не в ангелах, но и не в людях,
И уже замечают смышлёные звери подчас,
Что нам вовсе не так уж уютно
В мире значений и знаков.
Пер. В. Микушевича]
В знаменитом письме к польскому переводчику, которое Хайдеггер цитирует в «Wozu Dichter?», он, рассуждая о различии между животными и ангелами, говорит: ангелы есть сущие, которые уже выполнили работу по преобразованию мира из видимого в невидимое. Да. Так что… не человек, не ангелы, а животные уже знают. Это…
Вармински: Мне пришло в голову не то, что вы процитировали, а другие строки из… кажется, это из «Das Buch der Bilder» или «das Stunden-Buch», там есть поэма, которая начинается — в контексте «weltarm» — есть ведь поэма Рильке, которая начинается так: «Wir sind ärmer denn die armen Tiere» («Мы беднее бедных животных»).
Пеппер: Есть три книги из «das Stunden-Buch», и одна из них… я всегда забываю первую. Вторая — «Паломничество», а третья — «Das Buch von der Armut und vom Tode» («Книга о бедности и смерти»).
Вармински: «…vom Tode», точно! Мне кажется, это потрясающе.
Пеппер: Да, это та самая книга, которая посвящена Лу Андреас-Саломе.
Деррида: Это вопрос открытости, верно. У животного есть открытость. У камня открытости нет, но у животного есть. Однако такая открытость не дает доступа к открытому как таковому. И то, что он может говорить об этом так беспечно: и для блохи, и для обезьяны — это сбивает с толку.
Пеппер: Чтобы не просто перебрасываться цитатами, но читать, было бы интересно упомянуть, что Хайдеггер, насколько я помню, ни разу не комментирует то, что Рильке говорит о «нас, поэтах». В том письме он говорит: мы пчелы невидимого, мы собираем мед этого мира, чтобы его преобразовать.
Деррида: Хайдеггер в этом тексте много говорит о «плечах», не заметили?
Пеппер: Ладно. Так вот, Рильке проводит аналогию между ролью поэтов и самыми геометрическими животными, животными, которые конструируют самые геометричные ячейки, где и располагается код.
Левин: И «код» здесь ключевое слово: различие, которое вы провели, то, что отделяет животных от человека, это тот факт, что человек deutet (истолковывает). И если любое животное — а пчелы являются животными par excellence, которые созданы, как вы знаете, как языковые животные. Так вот, речь, наверное, идет о разграничении… языкового характера животности и различия между языком животных и…
Деррида: Здесь Хайдеггер сказал бы как раз, что пчелы обладают кодированным языком, фиксированным раз и навсегда, и что они не могут обогащать свой язык. В этом анализе имеется тема обогащения. Человек может добавлять. Пчелы обладают исключительно инструментальным, чисто кодированным, фиксированным, адаптированным языком — лучше адаптированным, нежели человеческий, разумеется, ведь он был приспособлен раз и навсегда.
Здесь он примыкает к великой традиции. Я не знал об этом хайдеггеровском тексте ни во время доклада в Корнелле, ни позже, когда говорил о традиции пчелы — традиции, которая идет через Маркса, Аристотеля и др., Шеллинга, есть целый топос пчелы в истории философии там, где речь заходит о животности, — я не знал об этом тексте Хайдеггера, который добавляет на другой странице, нет, на той же, всё на той же самой странице… И сексуальность…
Пеппер: Это возвращает нас к тому примеру, о котором я думал и который в каком-то смысле откидывает нас опять же к вопросам: почему риторика, почему вопросы…. Это прозвучит как расхожий исторический вопрос или ремарка, но я не хотел бы быть… Хайдеггер в каком-то смысле записывает эти мысли в то самое время, когда он, кажется… ладно, имеется мысль об эпохальности, скрытой в том факте, что в XX в., примерно во времена открытия генетического кода, вместе с открытием определенного рода прото-письма, которое не делает различий между человеческой жизнью и другими формами жизни, что на самом пределе крайне технического вопроса, начала которого он пытается вопрошать, за двадцать четыре столетия до этого… Через это вопрошание, в эпоху этого вопрошания, мы приходим туда, где человек, благодаря тому, чем это вопрошание заканчивается, больше не является чем-то привилегированным. Но… Посредством техники, в эпоху…
Деррида: Вы сказали «эпоху» или «эпику»?
Пеппер: «Эпоху».
Деррида: «Эпика» тоже неплохо…
Пеппер: Я не знаю, что с этим делать, но модель генетического кода в каком-то смысле как конец… определенного рода вопрошания, которое он не мог… это очень похоже на случай с пчелами… в который он не смог включить более «письменные» аспекты, в каком-то смысле…
Деррида: Я не знаю, что из этого могло бы получиться, потому что я убежден, что в тот период и позже Хайдеггер прекрасно знал — на расстоянии — об исследованиях и открытиях в области генетики и зоологии. Но я не думаю, что это что-то меняет, я не думаю, что это бы всё поменяло. Он приводит аргументы, которые он не смог бы привести в XIX в. и которые он не смог бы привести во времена Аристотеля. Что вовсе не означает, будто он был неправ. Возможно, позитивные открытия современной генетики и в самом деле не изменяют всю эту проблематику на фундаментальном уровне.
Вопросы, которые я задаю себе по поводу Хайдеггера, не являются, не зависят существенным образом от каких-то конкретных открытий в области генетики, или генетического кода, или ДНК и проч. Необязательно. Вопросы, которые я ставлю, столь же фундаментальны. Например, по поводу единства животности: мне не нужно зоологическое знание, чтобы поставить этот вопрос.

Пеппер: Хорошо, однако это возвращает нас к вопросу об интонации в вашем отношении к мысли Хайдеггера. Всегда кажется, что вы в разработке каждой из четырех «нитей», когда вы употребляли такие выражения, как: «это беспокоит меня», «это тревожит меня», «колебания»… Вы описали хайдеггеровские слова, вы описали его образ действия как «габитус», «стиль», «манеру», и еще вы говорили о том, чтобы совершить «иной жест»…
Деррида: Да, это очень важно. Это важно в общем и целом — различие в интонации, в стиле. То есть я уверен, что, как было сказано на конференции в Сиризи в 1980 г., на определенном уровне между тем, что пытаюсь делать я, и тем, что делал Хайдеггер, содержательного различия нет. Вполне можно перевести целокупность — я говорю гипотетически — можно перевести целокупность мысли о следе или о письме в мысль о бытии. Такой перевод возможен. На этом уровне остается одно лишь различие, которые иные сочтут несущественным — а именно различие в стиле, интонации, жесте, манере, пафосе.
Но с точки зрения содержания, если его можно изолировать, можно перевести одно в другое, сведя тем самым всё, что я делаю, к одному абзацу хайдеггеровской работы… Этот жест, очевидно, предполагал бы стирание вопроса об интонации, языке, позе, жесте как вопроса вторичного. Да. И об идиоме! О языковой идиоме тоже… Чего я, например, не готов сделать столь легко…
Во-вторых, если на сегодняшнем заседании, как и в ходе других, я и настаиваю на беспокойстве, колебаниях, дискомфорте, то это потому, что я не хочу — учитывая, чем именно я занимаюсь, — чтобы меня запирали в формат возражений или тезисов, поскольку еще слишком рано: всё это и правда для меня остается дискуссионным, так что я хотел бы предложить свои соображения коллоквиуму как нечто такое, что еще только предстоит обсуждать.
Поэтому, когда я однажды, вероятно, к этому вернусь, систематически, не торопясь, в ходе письма, у меня будет меньше колебаний. Но мне было важно отметить тот факт, что я выбрал эти четыре ведущих нити специально для того, чтобы направиться в те области моего прочтения Хайдеггера, где я меньше всего чувствую себя уверенным, где я пребываю в движении. Хорошо… Так как остальное либо было яснее, либо уже оговорено…
Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, с третьей точки зрения, которая, возможно, отчасти совпадает с первой: верно, что Хайдеггер никогда не говорит (или никогда не пишет): «Я не решаюсь…» Не говорит он и: «Я уверен». Однако его пафос может быть следующим: здесь мы находимся перед Unheimlichkeit, перед загадкой, перед… мы трепещем перед загадкой, да.
Но он не говорит: «Я бы не решился сказать…» Поэтому я прекрасно вижу, как бы он ответил на этот вопрос: «не решаться сказать» означает, что здесь предпринимают методическое исследование, выносят суждение и допускают ошибку — это модель научного исследования, модель или метод: не путь, но метод. Колебаться не следует…
Пеппер: Он говорит об остановке или замедлении, но…
Деррида: Или шаге назад. Когда он говорит, что Кант, например, делает шаг назад, испугавшись того, что он осмелился сделать в первом издании «Критики…»
Левин: Получается, Gelassenheit — это не колебание?
Деррида: Нет. Нет, нет, я так не думаю. Нет, нет.
Пеппер: Ладно, тогда сразу же возвращается вопрос: есть ли какая-либо уверенность в колебании или, точнее, возможно ли, чтобы колебание, если следовать за определенной линией де Мана, сделало невозможным решение, является ли колебание всего лишь риторическим ходом?
Деррида: Я скажу вам, что ответил бы по поводу колебания Хайдеггер, будь он здесь. Он сказал бы три вещи. Он сказал бы: во-первых, колебание по-прежнему связано с практикой сомнения — картезианского, — а значит связано с поиском уверенности. Колеблющийся ищет уверенности, так что это сознание, уверенность, когито. Итак, это первое. Во-вторых, колебание может быть между двумя возможностями. Кстати, сомнение (doute) — это всегда про duo, это всегда двойственность: Zweifel. Когда мы сомневаемся, мы выбираем между двумя.
Итак, либо это картезианское сомнение, либо это колебание между двумя неразрешимостями, либо мы находимся в ситуации тупиковой диалектики. Это ситуация, когда налицо либо диалектика, либо неразрешимость, что сводится для него к одному и тому же. Выходит, что речь всё еще идет об отношении, о субъективной воле к господству: мы хотим знать, мы хотим принять решение. Знать: А или Б…
Пеппер: Получается, это уже нечто определенное.
Деррида: Да. Мы уже в… неважно. В-третьих, это риторическая фикция — «риторическая» в расхожем смысле, понятно — речь идет о стиле. Говорят: «Я колеблюсь», но только из вежливости. Это так, для красоты, некая манера, вопрос стиля. И он, очевидно, не хочет иметь дела ни с одной из этих трех вещей. Ну или это какое-то заикание: перед нами человек, который… который… который подыскивает слово, потому что не знает, как написать.
Когда же он сам оказывается перед бездной языка или перед вопросом языка, он говорит, что его бедность, его нищета не имеет отношения к стилю «я не знаю, как написать» — «я не знаю, как сказать» или «меня этому не учили». Это нечто другое, это иное измерение заикания или немоты. Тогда как колеблющийся — это тот, кто, по сути, не нашел времени на работу. Хайдеггер бы ему сказал: «Иди поработай и возвращайся или когда узнаешь, что ты хочешь сказать, или когда и правда окажешься перед поэтической бездной…»
Кинан: Не могли бы вы поподробнее рассказать об институциональных предпосылках различия между «как таковым» и «не-способным-на-как-таковое»? Как это можно перевести в институциональный контекст?
Деррида: Итак, в том, что я бы назвал классической структурой университета — такой, которую Хайдеггер, особенно тогда, не ставил под вопрос, пытаясь лишь продумать в том виде, в котором она существовала — есть отделения по изучению отдельных объектов. Так, есть отделение физики, отделение зоологии, отделение психологии и т.п., каждое из которых соответствует региону объектов (Гуссерль сказал бы «объектов», Хайдеггер сказал бы «сущего»).
Так вот. Философ-метафизик — это тот, кто относится к сущности объектов, которыми занимаются на каждом из этих отделений. Физик со своей стороны предполагает наличие сущности своего объекта. Он не мыслит ее как таковую. Философ со своей стороны не нуждается в результатах физических исследований, чтобы знать, что есть физическая вещь как таковая. То же самое относится и к биологии, к психологии и т.д. Итак, философ — это тот, кто в одиночку может помыслить как таковую сущность объектов, разбитых по регионам или дисциплинам, по отделениям. Вот только иногда он забывает о своей задаче.
И в эссе «Что такое метафизика?» Хайдеггер призывает его к этой задаче вернуться, а именно к тому, чтобы метафизик был тем, кто ставит вопрос «что есть?» или «почему есть нечто, а не ничто?», а значит тем, у кого есть доступ к бытию как таковому, а также к сущности сущего как такового. Таким образом, перед нами своего рода пространство, поделенное на регионы, причем привилегия, так сказать, метафизики (здесь: фундаментальной онтологии) заключается в том, чтобы мыслить сущность каждого региона и бытие сущего вообще. Не только как целостность, но как бытие сущего, как таковое. Да.
Так вот, я уверен, что был момент, в эпоху «Бытия и времени» и «Что такое метафизика?» — скажем, в 1928, 1930, 1931 гг., вплоть до «Ректорской речи» 1933 г., — когда Хайдеггер, на мой взгляд, не бросает вызов всей этой организации. И его жест состоит в простом пробуждении философа к его философской ответственности перед университетом. Университет не должен быть просто распределением позитивного знания с профессиональными, техническими целями. Он должен мыслить его сущность, его назначение, и философ — это тот, кто, не будучи просто отдельным ученым, мыслит сущность университета и сущность каждого отделения.
Позже, я думаю, около 1935 г., и после, когда он перестает звать то, чем он занимается, «онтологией», когда сама идея о том, что фундаментальная онтология сможет обосновать все регионы, становится для него проблематичной, в этот момент даже университет как место этой фундаментальной онтологии не является больше для него местом мысли. И я думаю, был момент, когда он переходит, так сказать, от фундаментальной онтологии к мысли.
Так он покидает университет, если хотите — в любом случае он покидает… не то чтобы уходит, но… Университет больше не является для него надлежащим (propre) местом мысли. Оставаясь при этом надлежащим местом фундаментальной онтологии, а также артикуляции, сочленения между онтологией и науками, между философией и отдельными науками. Итак, ваш вопрос касался того, как всё то, о чем я сейчас говорил, относится к вопросу о животности?
Кинан: Вы вроде бы говорили об аналогии между всем этим, между тем, как «как таковое» срабатывает в отграничении животных от людей, и тем, как оно отграничивает философию от других отделений.
Деррида: Не знаю… Да, хорошо, я рискну. У меня здесь множество колебаний, так как то, что я сейчас скажу, содержит в себе долю насилия. Но рискнем. Если мы говорим, что животное обладает отношением к объектам, причем к объектам не как таковым, и, значит, не задается вопросом о сущности, то не обладают ли ученые как ученые, ученые позитивных наук, физики, зоологи как таковые, которые также, по Хайдеггеру, обращаются с объектами, познают и т.д., но не задаются при этом вопросом — даже если ученый и задается вопросом, то делает он это не как философ, но как ученый, — вопросом, которым только философ как таковой может задаваться, так вот, не обладают ли они тогда животным отношением?

Другими словами, не является ли не-философ ученым? Короче, не обладает ли он собственно животным отношением к своим объектам? Я уверен — ну ладно, это шутка, — но Хайдеггер, вероятно, ответил бы «нет», поскольку в рамках организации поля знания подразумевается, что где-то вопрос о сущности уже был поставлен. Не получилось бы организовать, создать какой бы то ни было зоологический, или математический, или физический проект, если бы мы как люди уже не располагались в открытости этого als, открытости «как такового».
Следовательно, сравнивать ученых с животными нельзя. Тем не менее — хорошо, я такой ответ прекрасно понимаю, — тем не менее отношение «без als» к «с als» столь запутанно, столь двойственно в конечном счете, что везде, где есть доступ к такому отношению, остается возможной только что предложенная мною гипотеза. И ведь по сути, между прочим, она не столь уж невероятна, если мы говорим, что наука находится на службе практической, полезной организации общества, экономики: на этом уровне речь идет о животной части общества, которое создает для себя лаборатории, даже отправляется на Луну и проч.
Итак, то, что где-то есть индивиды с их опытом вопрошания бытия как такового, никак не меняет того факта, что человеческое общество — это великая форма животного общества, которое обладает… ладно, как бы то ни было, его можно таким образом описать.
Итак, если мы говорим о стиле и юморе, я не думаю, чтобы Хайдеггер был когда-либо склонен рассматривать людей как животных. Лично я делаю это постоянно. Я всегда говорю себе: вот так вид. Ладно, в любом случае, в своем «опыте» — не знаю, как это назвать — отношения к обществу, даже к самому гипер-индустриальному, меня всегда преследует — опять же, не скажу «неразрывная связь» с животностью, поскольку для меня тут нет непрерывности.
Есть множество разрывов, однако между животным вообще и человеком нет какого-то одного разрыва. Есть множество различий, но их распределение иное, оно не соответствует этой оппозитивной границе между не-человеческим и человеческим животным, Tierheit и Menschheit. И я уверен — я наверняка говорил об этом в другом месте, — что эта сущностная и строгая граница между животным и человеческим в том виде, в котором ее всегда устанавливали (и Хайдеггер здесь не исключение), в конечном итоге предназначена, или имеет эффект стирания различий — вместо того, чтобы их отмечать.
А это значит, что она стремится к гомогенности, к гомогенизации. Это верно для Гегеля, и я уверен, что это так и у Хайдеггера. Это значит, что в конечном итоге внутриживотные различия исчезают, исчезают даже различия внутри человеческого вообще. Здесь работает всегда та же логика оппозиции/различия. Хайдеггер еще продолжает логику оппозиции. Его текст анти-диалектичен — так он где-то и сам говорит, делая замечание, направленное против диалектики, — тем не менее прочерчивание одной-единственной линии между животным и человеческим принадлежит оппозитивной логике, а не той, которую я бы назвал различательной, différаntiel через а. И такая оппозитивная логика всегда обладает эффектом, если не целью, стирания различий.
Левин: Итак, если я всё правильно понял, вы указали на еще одно важное различие или, по крайней мере, на ответ Хайдеггеру, и это что-то вроде ответа на нечто предельно диалектичное у Хайдеггера посредством экономии различия. Может, вы хотите сказать что-нибудь о вопросе диалектики у Хайдеггера и о вашем к ней отношении?
Деррида: Что ж, по этому поводу: говорить, что Хайдеггер совершает жест всё еще диалектический, — это явно парадоксально. Он всегда шел против — не против dialegesthai, которое он, напротив, восстанавливает, — но против диалектики в ее гегелевской, аристотелевской форме, это очевидно…
Кассета 2, сторона Б
Деррида: Всякий раз, когда он утверждает, что установил линию сущностной чистоты, он, на мой взгляд, замещает логикой оппозиции логику различания. И это происходит не только в связи с животностью, которую я только что упомянул, но постоянно! Это даже и есть строгость мысли — мысли о сущности, которая не является мыслью о контаминации, которая желает избежать не постепенности, а дифференциации, причем не дифференциации сущности, понятно, да? Мы можем обнаружить такую схему везде.
Тогда как в том, что пытаюсь делать я — опять же я говорю это с очень, очень большим колебанием, отнюдь не желая просто выбрасывать на помойку логику сущности, вопрос о сущности, — в том, что пытаюсь делать я, внимание к восполнительности, контаминации, паразитированию всегда смещает эту линию сущностного разграничения и, как следствие, по-моему, лучше сопротивляется диалектизации, чем это делает Хайдеггер, который, вероятно, со своей стороны счел бы контаминацию, восполнительность, паразитирование, прививание, нечистоту как некий отброс, как всё еще недостаточную мысль.
Кинан: Будет ли та же самая логика верной, если на уровне организации университета… если будет подобная линия между ролью философии и ролью региональных дисциплин — как деконструкция вроде этой относилась бы к региональным дисциплинам? Ну то есть ясно, что она хочет сделать возможной для себя контаминацию, пересекающую линию. Но в то же время она, кажется, сопротивляется своей «методологизации», превращению в метод, применимый в региональных дисциплинах. Поэтому деконструкция, думается мне, склонна в какой-то момент утвердить свое отличие и свою несводимость к методу или региону. Но в том числе существует определенное стремление к контаминации.
Пеппер: В каком-то смысле это эпохальность деконструкции.
Деррида: Прежде всего вот что: естественно, если бы деконструкция стала методом, в рамках какой-либо дисциплины, то ее проект как таковой был бы абсолютно потерян, похоронен. Я бы сказал, что деконструкция начинается — и это даже, возможно, ее самый необходимый жест — с постановки под вопрос такой философской организации, будь то у Гуссерля или же Хайдеггера, такой институции, т.е. распределения регионов с фундаментальной или общей онтологии, которая мыслит не только организацию в ее целом, но и сущность каждого объекта или каждого региона объектов.
И я помню, что уже в «Грамматологии» я предположил, что иногда в рамках того, что называют регионом, может произойти, скажем так, продвижение, которое поставит под вопрос всю схему. Мне кажется, психоанализ, к примеру, производит подобные эффекты, да. А это значит, что то, что возникает внутри региона, региону не принадлежит. Внезапно, вместе с так называемым «биологическим» открытием, происходит нечто такое, что обязывает тех, кто работает с литературой, обратить на него внимание. Так что это не только смещает отношение между дисциплинами, или отделениями, но и обязывает нас в то же время вопрошать организацию в целом.
Итак, я полагаю, что «деконструкция» по сути своей означает именно это — в институте или где-то еще. То есть это опыт тех феноменов, а также предвосхищение, или память о тех феноменах, которые дезорганизуют институт, знание и отношение между философией и дисциплинами. Как только у нас появляется такой опыт и мы его, так сказать, испытали, запомнили, мы в таком случае можем сделать из него квази-методологические выводы. То есть: да, это может произойти, это может произойти везде, так что мы в нашей области больше не находимся в безопасности. И что мы должны делать, чтобы это учитывать?
Как, например, на отделении литературы, памятуя об этих деконструктивных вопросах, мы должны действовать, дабы такие события реорганизовывать, а не подавлять, дабы они оказались усилены или аккумулированы? В этот момент мы начинаем читать иначе, производим события, мы способны производить новые события в опоре на эти «методы». Я говорю о «методах» в кавычках, это квази-методы, так как эти «методы» сами постоянно, как бы это сказать, движутся, смещаются тем, что может произойти.
Но в любом случае существуют не-всеобщие правила, частичные правила, ограниченные собственным полем применения, однако они действенно полезны, позволяя легче распознать события, которые были не распознаны до сих пор, позволяя легче производить события, которые было не так легко производить до этого. Итак, по поводу этого вопроса о методе, я был бы… не релятивистом, но, как бы это сказать, большим, да, эмпириком.
Существует метод, методологические эффекты деконструкции, которые сами методом быть не могут. Это, по-моему, и происходит… Если мы попытаемся проанализировать то, что актуально происходит в некоторых местах, куда вторгается деконструкция…
Кинан: …в менеджменте…
Деррида: …да, есть и такие феномены, или в литературе, в философии, где есть такие же феномены: люди начинают осознавать, что в первую очередь они не могут оставаться в рамках своего отделения, что им нужно апеллировать к чему-то другому, они начинают анализировать тексты по менеджменту аналогичным образом… да… и они замечают то, чего не замечали раньше — и производят новые события.
Левин: Применяя грамматологию?
Деррида: Да, да…
Пеппер: Итак, здесь в каком-то смысле осуществляется попытка — исходя из всех этих слов в кавычках — помыслить, чем может быть метод, который вызывает к жизни задачу помыслить нередуцируемость каждой институциональной ситуации, будь то отделение литературы, Collège international de philosophie… своего рода наука имени собственного?
Деррида: Лично я был бы склонен проявить некоторую настойчивость — что ж, можно взять любую конкретную дисциплину в качестве примера, — но что меня в ходе нынешней поездки в США больше всего поражает, это то, что происходит на юридических факультетах, в теории права. Происходят очень интересные вещи, или готовятся с точки зрения того, что… И естественно, никакое место не является лишь одним местом среди прочих, все они обладают своей собственной привилегией, но именно это кажется мне теперь обладающим особенной привилегией на той сцене, где мы теперь находимся.
Пеппер: Вы имеете в виду здесь, сейчас?
Деррида: Здесь (в Йеле), в Гарварде… я читал тексты — там много ажиотажа: так, например, вопрос о законе не является одним вопросом среди прочих, если мы говорим об институтах, — где… деконструктивная практика может производить эффекты, очень быстро расширяющиеся в силу политических ставок, в силу всего, с чем закон связан.
Кинан: Может ли хайдеггерианская практика производить такие же или сходные эффекты? Или же в стиле деконструктивного вопрошания есть нечто такое, что не позволяет ему быть…
Деррида: В любом случае меня поражает следующее: естественно, можно вполне себе считать — я и сам в какой-то степени так считаю, — что то, что зовется «деконструкцией», задействует Хайдеггера или от Хайдеггера производно, происходит после Хайдеггера. Это верно, это бесспорно. Тем не менее я не могу представить, каким образом без деконструктивного реле (назовем это так) хайдеггеровские тексты, хайдеггеровская практика, хайдеггеровский язык были бы способны произвести внутри институтов — в частности, академических, за пределами философии или даже в рамках философии, но особенно за ее пределами — эффекты, которые производит деконструктивная практика.
И мне кажется, это имеет отношение к тому, о чем мы теперь говорим, т.е. к смещению вопроса о бытии, об отношении между фундаментальной онтологией и онтологиями региональными, к тому, что деконструкция предполагает интерес к психоанализу, литературе иного типа, нежели в хайдеггеровских моделях (Гёльдерлин, Рильке и проч.), она предполагает постановку вопроса о законе… как бы то ни было.
Я уверен, что деконструкция — у меня всегда вызывает колебания употребление этого слова в единственном числе — поэтому скажем: деконструкции, во множественном числе, находят средства или обеспечивают себя средствами действенного вторжения в институциональный ландшафт, куда за полвека не смог вторгнуться текст Хайдеггера, или не стал вторгаться, как угодно. И здесь есть нечто… Всё это не означает, будто нечто вроде деконструкции было внезапно изобретено, дабы сделать то, чего не сделал Хайдеггер. Совсем нет.
Это значит, что деконструкция стала возможной благодаря политическим изменениям послевоенного периода, благодаря всем политико-институциональным потрясениям и переменам и проч. внутри институтов, поэтому миру потребовалось нечто вроде деконструкции — скажем так, послевоенному обществу, в котором текст Хайдеггера как таковой, в том виде, в котором он был написан, не был способен произвести эффекты, которые были бы столь же действенными и мощными в институтах, например академических.
Так вот, здесь есть нечто такое, что объясняет различие между Хайдеггером и деконструкцией. Дело не только в содержании или индивидуальном стиле письма, но и в изменениях мировой политической ситуации, которая, ни в коей мере не делая Хайдеггера чем-то устаревшим, нынче переносит тип хайдеггеровской прививки, переносит гораздо легче. Что опять же не означает, будто Хайдеггер присутствует или живет меньше — читать и перечитывать его необходимо как никогда, но в сопровождении такого типа вопроса, который вновь возродит необходимость его… пути.
Кинан: Но дело не просто в действенном вторжении, ведь Хайдеггер был вполне действенно — может, даже слишком действенно в плане комфорта — способен вторгнуться в институциональный контекст или сыграть роль…
Деррида: Вы имеете в виду 1930-е и 40-е гг.? Да, да, только здесь стоит быть предельно осторожными. Верно, что определенным образом он вторгся — в смысле «слишком плотно в плане комфорта», как вы выразились. Однако сам бы он сказал, что всё сложнее, что на самом деле — что ж, нам здесь придется снова открыть «досье» — для него в Германии это было единственным местом, где всё еще было возможно говорить свободно, критиковать режим; в любом случае ничего лучше того, что он делал в те годы, он сделать не мог. Поэтому здесь, я думаю, нам лучше не открывать это «досье» снова, потому что это огромный вопрос.
Но, на самом деле, не чтобы его избежать, но чтобы иметь с этим вопросом дело, нам пришлось бы… Только что я говорил о том, что происходило после войны. И, возможно, также из–за того, что Хайдеггер сделал или не сделал до войны, в 1930-40-е гг., между 1930 и 1945 гг., одновременно и из–за того, что он сделал, и из–за того, что не сделал, его тексты, вероятно, оказались заперты, ээ, как бы это сказать, ограничены по своим эффектам.
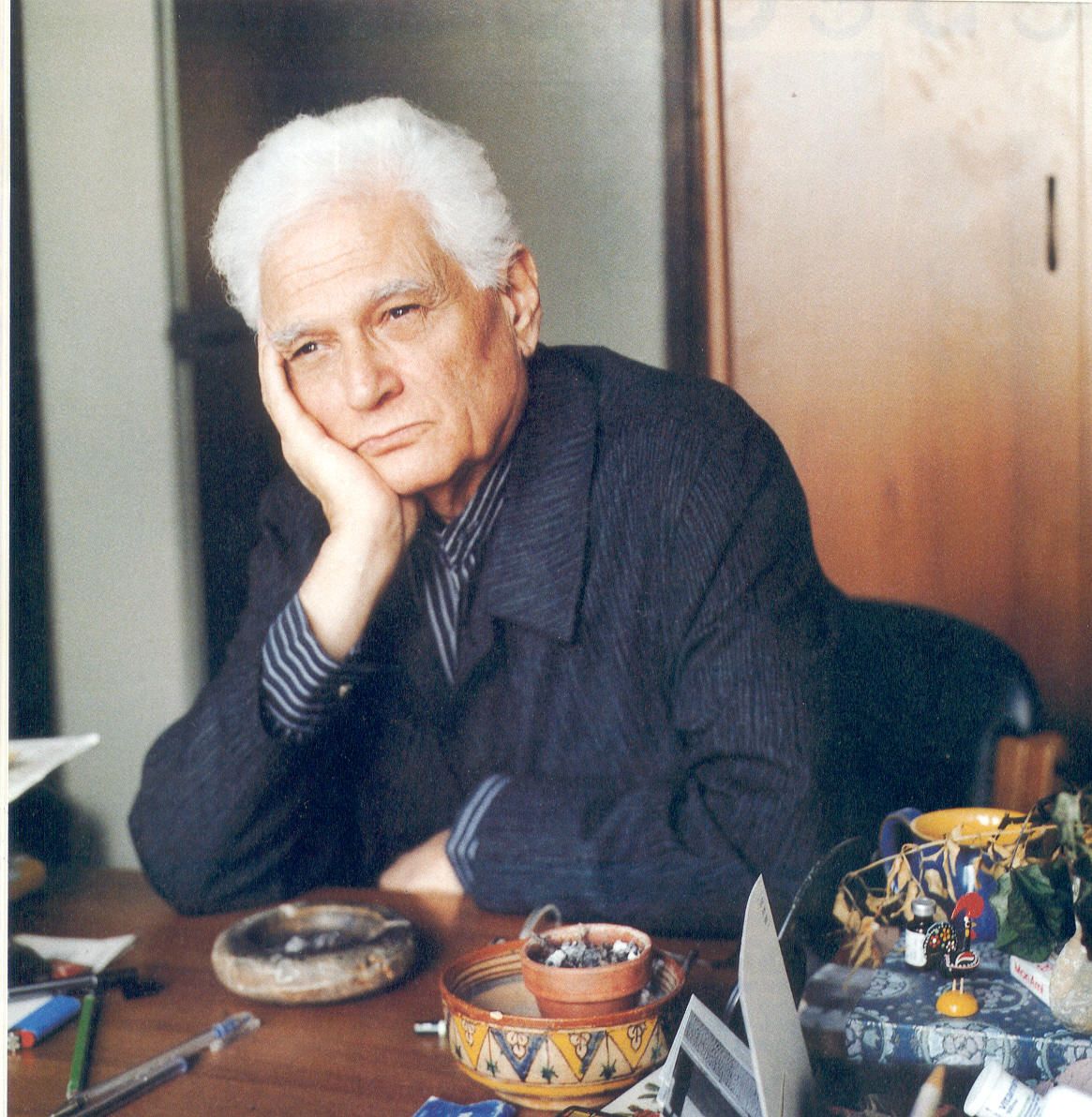
Из–за его политики, да, во всей ее сложности. Его политика привела к тому, что после войны, в Германии или где-то еще, он не мог производить политических, политико-институциональных эффектов. В Германии его полностью похоронили, это так и сегодня в какой-то степени. И те места, где его читали и, так сказать, продолжали приветствовать, были местами — я имею в виду не только Францию, но и США — местами энтузиазма, непрестанного энтузиазма, поклонения.
Пеппер: Теологического почти…
Деррида: Совершенно верно, да. Но потенциал — я не назову его «революционным», — но политический потенциал, который есть в его текстах, из–заэтого остался неизученным. Я думаю, это и есть то, что мы зовем деконструкциями, во множественном числе, — некоторое хайдеггеровское наследие. Я не стану говорить, я не люблю говорить о хайдеггерианстве правого или левого толка, всё это не так просто, — но в любом случае есть политический потенциал, который, на мой взгляд, деконструкции способны реактивировать.
Левин: Здесь стоит открыть немного другую скобку. Хотя Хайдеггер много раз писал о вопросе о техне, а в рамках этого вопроса и о вопросе о техники, я думаю, было бы справедливым охарактеризовать его отношение к технике как в общем и целом почти луддитское. Я помню его высказывание о Спутнике, а также его почти рефлекторную реакцию против телекоммуникаций и различных высоких технологий. Одной из интересных черт вашей работы, на самом деле, является то, что она не уклоняется от вопросов телекоммуникаций и технологий, серьезно ими занимаясь.
Деррида: Ну, в текстах Хайдеггера такое встречается достаточно часто. Он бы сказал: «Нет, я ничего не имею против технологий, против телекоммуникаций». Верно, что пафос его текстов с очевидностью ворчливый по поводу всех этих вещей и что поставленные им вопросы, несмотря на все его отрицания, стремятся, так или иначе, представить новые технологии и телекоммуникации как нечто угрожающее, опасное, упадочное. Это едва ли можно оспорить, хотя это никогда не выступает объектом утверждений, тезисов или выводов с его стороны.
Так вот, чтобы ответить на ваш вопрос, нам придется вернуться — я колеблюсь, я не хотел этого делать здесь, между нами, потому что в каком-то смысле я уже это сделал в «Почтовой открытке», а именно: вернуться ко всему вопросу Geschick’а, телекоммуникаций. За эти два заседания я пытался не возвращаться к тем или иным вещам, то есть я попытался разместить себя там, где я еще не был, где я на самом деле не буду знать, куда направляюсь, где я еще не говорил обо всем этом.
Итак, вопрос телекоммуникаций, по-моему, является — я не осмелюсь сказать «центральным» для моего спора с Хайдеггером. Не только, кстати, из–за коммуникации между envoi и Geschick, но и из–за вопроса дистанции, сепарации, отношения к другому, на расстоянии. Но я затрудняюсь во всё это здесь входить.
Вармински: Я не хочу менять тему, но в каком-то смысле у нас здесь своего рода интервью, так что… Не открывая заново «досье», и отчасти потому, что я недавно посмотрел [фильм Клода Ланцмана] «Шоа», есть строчка из Левинаса — кажется, из другого издания книги «En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger» — там есть небольшое предисловие, довольно известное, где он вроде бы говорит нечто вроде (хотелось бы, конечно, чтобы перед глазами был текст): молчание Хайдеггера о том, что мы зовем Холокостом, коротко говоря, непростительно. Бланшо приводит эти слова в тексте, посвященном Левинасу, «Notre compagne clandestine».
С точки зрения этого различия между тем, что может сделать деконструкция, или тем, что она может сделать, проникая в ситуацию, и т.д., я бы также вспомнил и о различии между всем этим и молчанием по этому вопросу со стороны Хайдеггера. Ему не нужно было говорить о своей запутанной коллаборации и проч., но — никогда ничего о Холокосте после 1945 г.? Никакого признания или… И как раз таки в связи с технологией смерти — технологии здесь очень много. Когда смотришь «Шоа», например, этот фильм о Technik, Technik des Todes. Это, как я и сказал, что-то вроде вопроса из интервью: Что вы думаете по поводу хайдеггеровского молчания по поводу Холокоста? Или как хотя бы начать думать об этом?
Деррида: Я не знаю. Очевидно, есть вещи, которых ожидают, что ты их скажешь. Я вспоминаю Целана. Целан приезжал увидеться с ним, надеясь на то, что он что-нибудь скажет. И в своей небольшой книжке о Целане я вспоминаю о том, что сказал на сей счет Лаку-Лабарт в рамках анализа той встречи, насчет вопроса прощения, да, именно прощения. И да, это одна из самых, самых сложных вещей, которую только можно принять. Мне нечего об этом сказать, кроме следующего: это молчание кажется столь же чудовищным, как и то, о чем оно молчит. Молчание молчит.
Я не вижу, как можно ослабить серьезность вопроса, если только не сказать, к его чести — если такое возможно! — что ему ничего оригинального сказать было нельзя и что он, вероятно, хотел избежать оскорбляющего отношения, которое бы заключалось в том, чтобы под давлением сказать нечто банальное, дабы себя оправдать. Ведь он мог сказать: «Это ужасно», как говорят в таких случаях — «Это чудовищно», «Это немыслимо», слова искренние, но тривиальные. И в таких ситуациях, когда приходится говорить, думаешь: «Вот чего люди от меня ждут, я всё это скажу, чтобы оправдаться, ведь меня обвиняют…» и проч., и он с гордым и достойным жестом говорит: «Нет, я не стану, не стану так делать». Я говорю «вероятно», да, поскольку нет уверенности в том, что он… что это столь же достойно.
Пеппер: Тогда в продолжение этого: можем мы попытаться поразмышлять об этом, можете вы сказать что-нибудь насчет отношений между миром, в котором мы теперь пребываем, в котором повсюду имеет место нечто вроде деконструкции или деконструктивных эффектов, не только в университетах, причем не только на правовых или художественных факультетах или в Силиконовой Долине, называйте как хотите, но в котором также, если не тривиализировать Холокост — ведь следует продумать вопрос Холокоста, — имеют место холокосты? Небольшие такие, знаете: уничтожение деревень, Вьетнам, Никарагуа, Эль-Сальвадор, Ливия и т.д. Что насчет отношения между пространством диссеминации деконструкции и диссеминации холокостов… а еще между этими двумя институциональными отношениями?
Вармински: Я этим одержим, но я только что посмотрел первую часть [фильма «Шоа»] — мне кажется, вы также сказали… В каком-то смысле это очень хайдеггеровский фильм, в своем роде: по своему отношению к языку, я бы сказал, ведь это именно то, о чем вы говорили: это не обязательно должен быть Мартин Хайдеггер, понимаете, человек в своей Hütte. Если бы им пришлось опрашивать польских крестьян, или бывших нацистов, или кого-то еще, они бы спросили: «Что вы думаете об уничтожении, обо всех этих людях?» — и они бы сказали: «Всё это очень плохо, а вообще я за права человека». Это было бы банально… Уверен, даже польские крестьяне, невежественные и суеверные, сделали бы такой жест.
Но вместо того, чтобы задавать подобные вопросы, Ланцман спрашивает: «Как далеко от дороги находилась канава?» — «Хм, в 150 метрах». — «А в каком состоянии была дорога, когда по ней ехали грузовики?… Там был асфальт?» — «Да, асфальт был, но не такой белый, как теперь». И язык, который они находят, потрясающий, ну то есть они предают самих себя, будь то выжившие, или коллаборационисты, или крестьяне, или нацисты и т.д.
Язык предает их, то есть он говорит гораздо больше, чем они сами могли бы сказать, задай вы им какие-нибудь метафизические вопросы по поводу человеческих жертв. Когда им задают, так сказать, крайне технические вопросы, die Sprache spricht! Это потрясающе. И в каком-то смысле молчание Хайдеггера после войны говорит точно так же. Это лишь мои мысли. Я не знаю…
Деррида: Наверное, стоило бы связать этот опыт Холокоста с тем, что мы говорили о животности. С одной стороны… да, есть два способа продумать то, что тогда произошло. Либо как выражение нечеловеческого в форме возвращения к животности, включая сюда и технологически продвинутую форму: они животные. Животные, которые обращаются с другими животными, уничтожающие себя популяции, перестраивающие свое пространство, совершая… Итак, это нечеловеческое как нечеловеческое тех, кто скудомирен.
Либо это иное нечеловеческое, иная нечеловечность. Итак, разумное животное: когда Хайдеггер говорит о человеке как разумном животном, это не равно человеческому, достойному человека. И разумное животное опять-таки — это животное, которое берет, но не отдает, понимаете, это Vernunft, Vernehmen и т.д.
И технологический человек — говоря коротко, нацист, который использует все эти технологии смерти, — является разумным животным, которое еще слишком животное, которое еще не достигло достоинства человека, о чем Хайдеггер говорит в «Письме о гуманизме». Таков его ответ, если говорить коротко, его косвенный ответ. И чтобы продумать достоинство человека, необходимо выйти за пределы разумного животного, поскольку разумное животное — это всё еще в каком-то смысле зверь. Обладающий разумом и технологией.
Итак, мое беспокойство, которое я выразил по поводу того, что он говорит о животности: является ли это жестом в сторону мысли о человечности, которая бы не просто располагалась по ту сторону линии, в оппозиции с животностью, и которая наконец — для некоторых это может быть как раз таки нечеловеческим — которая наконец вывела бы нас за пределы того, что сделало возможным Холокост? Не является ли это, другими словами, транс-этической этикой, транс-человеческим, сверхчеловеческим человеком?
И я не знаю, можно ли такой жест противопоставлять хайдеггеровскому. Потому что мне кажется, что в «Письме о гуманизме» он тоже думал о том, чтобы помыслить человеческое, которое именно что не принадлежало бы традиционному гуманизму. Но теперь я уже не вполне понимаю, что я хотел сказать.
Различание, которое не является оппозицией, скажем так, прокладывает путь новой интерпретации животных и людей — я пытаюсь вернуться к вопросу Освенцима и к тому, что иные назовут «этическим» вопросом, — это в каком-то смысле и есть то, что именно из–за различания не позволяет переприсвоить себя в диалектической гомогенности, оставляя место для отношения к другому. Да, различание — это еще и это, отношение к инаковости другого, которое по ту сторону всеобщего закона, а значит и по ту сторону любой формальной этики, любой политической законности, сможет защитить нас от какого угодно смертельного риска вроде Освенцима, например.
Однако Освенцим принадлежит тому миру, где несмотря ни на что закон и рациональность, т.е. такое отношение к другому, которое поддается технической артикуляции в рамках закона — отношение к не-уникальности, — является законом, где отношение к не-уникальности является законом. Поэтому покуда мы находимся в пределах диалектики, внутри онтологического вопроса, в рамках кантовской морали как морали, опирающейся на закон и форму, покуда мы находимся в этих пространствах, последнее слово будет оставаться за технической и универсализирующей инструментализацией.
И я бы сказал, что только в рамках этой мысли о различании, которое я пытаюсь вывести из этого пространства, можно спасти отношение к другому как другому, за пределами любого вида законности. И только при этом условии возможна этика, хотя этот момент этическим в традиционном смысле этого термина не является.
Вармински: В каком-то смысле это будет вид монструозной этики…
Деррида: Ээ, да…
Вармински: Я сейчас изучаю «Грамматологию», и там, в конце экзерга речь заходит о вторжении письма «sous l’espèce de la monstruosité» [«в виде монструозности»].
Деррида: «Espèce» здесь означает «аспект», тут нет родо-видового обобщения.
Вармински: Потому что «монструозность» не является «espèce» в смысле «разновидности».
Деррида: Нет, это не «разновидность». Когда я на французском говорю «sous l’espèce de» — это весьма удобный способ сказать «в форме» [«sous l’aspect de»], без обобщения. Это то, что видно, да, то, что видно. Монструозный лик. Лик, то есть лицо монструозности.
Вармински: Но монструозное и монстры продолжают вновь появляться: в конце доклада «Структура, знак и игра» опять же рождается нечто вроде монструозности.
Деррида: Я прекрасно понимаю, что можно было бы возразить на мои крайней бессвязные слова — их можно было бы обратить против меня самого и сказать: но если вы хотите спасти отношение к другому как абсолютно уникальному, за пределами моральной законности прав человека, универсальности и т.п., под предлогом избегания рациональности, которая сделала возможным Освенцим и проч., то вы рискуете всё это воспроизвести вновь. Ведь отношение к уникальности вполне может соседствовать с худшими монструозностями, с Освенцимом и всем прочим.
Вы спасаете какого-то конкретного другого, вы предпочитаете в конечном счете какого-то конкретного уникального индивида, кого-то, кого вы любите, например «свою мать», как сказал Камю, но если все другие другие кончают в Освенциме, то всё это уже неважно. Тогда как на самом деле лучшей гарантией, защищающей от Освенцима, наверное, является кантовская законность, абсолютная, для которой каждый индивид стоит столько же, сколько и другой, каждое человеческое существо стоит столько же, сколько другое, и мы перестаем возиться с уникальным. Я прекрасно вижу здесь этот риск. Это самое трудное. Поэтому-то Освенцим столь труден, да, Освенцим и другие проблемы, Освенцимы во множественном числе.
Пеппер: Диалог, Gespräch — мне кажется, до сих пор нет его прочтений, но вроде бы у Целана в «Der Meridian» есть описание искусства, в самом начале: «Die Kunst, das ist, Sie erinnern sich, ein marionettenhaftes, jambisch-fünffüßiges» и т.д. [«Искусство, как вы помните, это марионеточное, ямбическое пятистопное…»].
Потом он идет через тропы и в конце возвращается: «Aber im Lichte des zu Erforschenden: im Lichte der U-topie» [«Но в свете того, что предстоит изучать: свет у-топии»]. И он, очевидно, обыгрывает не-место лагерей и т.д., и т.п., так вот, как бы вы могли прочитать это «искусство», то, что он пытается сделать с Бюхнером, с Хайдеггером, с Освенцимом, и, и… к какому виду монструозности относится это искусство? Это… это слишком серьезно.
Деррида: Да, да…
Пеппер: Простите, но я имею в виду, что, когда к этому приближаешься, возникает ощущение, будто тут есть некий диалог: ошеломляющий вопрос.
Вармински: И «Письмо катастрофы» Бланшо.
Деррида: Как могли бы… Так, я сейчас думаю о заключении, не только для меня, но и для вас, потому что будет уже слишком много всего. Я думаю не только о том, что происходит здесь и сейчас, но в особенности о работе над… Так вот, наверное, будет лучше найти способ всё это распечатать, нарезать — вопрос в итоге заключается в том, стоит ли нам резать? Хайдеггер — больше человек узла, Geflecht. В «Unterwegs zur Sprache», да и в других местах, но особенно в «Unterwegs zur Sprache» есть замечательные страницы по поводу Geflecht. Да, так вот, стоит ли нам связывать или разрезать?
Кинан: Мы могли бы завязать небольшой узел — возвращаясь к вопросу прошлого заседания по поводу различия между различанием и онтологическим различием — к тому, как вы различали между, скажем, активностью сокрытия, активностью бытия, скрывающего себя за сущим, смещением линии, или что там было, между двумя, когда вы различали между всем этим и контаминацией, мыслью о различании как мыслью о контаминации, о чем-то таком, что отдается повторению, порче и загрязнению в повторении.
Я бы хотел узнать, есть ли способ — как показалось, в ходе расплетания четырех нитей, периодически на пути каждой из них — достичь уровня, где вопрос будет заключаться в чистоте, в защите определенной чистоты, в оппозиции с контаминацией. Когда я домой пришел, то посмотрел слово «контаминация» в словаре и узнал, что оно происходит от contaminare, что означает «соприкасать что-либо». Это от tango, tangere, касаться. Так вот, я не знаю… очевидно, существует различие между мыслью о сокрытии и мыслью о касании, но я не уверен, что так можно свести эти четыре нити воедино.
Деррида: Да, возможно. Желание избегать контакта у Хайдеггера очевидно. Контаминация есть зло, порожденное контактом. Это заражение. Чертить линию оппозиции — это… ну, между техникой и сущностью техники нет отношений; между человеческим и животным также нет отношений. Поэтому линию прочерчивают, чтобы избежать какого бы то ни было контакта между одним и вторым. Когда давным-давно я писал о Левинасе, я также попытался предположить, что у Левинаса как раз есть… что ж, я не осмелюсь сказать, «фобия» контакта, но суб-дискурс, если хотите, который предполагается всеми остальными, имплицитная оценка, которая делает либо чем-то невозможным, либо неким злом контакт между вещами. Фрейд так описывает невроз навязчивости: это фобия контакта.
Так вот, я мимоходом, незаметно процитировал там фрейдовский текст, не называя его, случайно, без… Я процитировал Фрейда без кавычек в том тексте о Левинасе, где речь шла о фобии контакта. Что ж, я думаю она есть во всех великих философиях. Необходимо знать, где проходит граница. А граница должна быть! Если не будет границы, нельзя будет мыслить. И мы не должны выходить за границу, не должно быть никакой нечистоты.
Отсюда можно объяснить регулярную необходимость трансгрессии, пересечения границы: именно такова кантовская трансцендентальная диалектика. Другими словами, осознание иллюзии не защищает нас от совершения того же самого жеста, который заключается в пересечении границы, которую пересекать не следовало. Опять же мы знаем, где проходит граница, мы знаем, что значит ее пересечь, мы знаем, как с ней обращаться, мы знаем, как нам следует вести себя по отношению к границе.
Итак, контаминация вносит во всё это беспорядок. Это значит, что граница внезапно исчезает. Мы не только соприкасаемся, но даже не знаем уже, кто и кого касается или где пролегает граница и есть ли вообще теперь какое-либо пересечение, трансгрессия. Да. И в этот момент мы больше не можем мыслить. Это сама философия или философия как эпистема, как наука, то есть в итоге как господство над границами, которое становится невозможным. Это-то меня, разумеется, и интересует. В этом отношении мой жест не является философским.

Внутри философии его можно охарактеризовать как эмпирицистский… как эмпирицистский, да. Тогда речь будет идти о том, что существуют различия в степени, и мы незаметно переходим от одной к другой. Но это философское определение контаминации. Что ж, у нас много тому примеров. И все великие философии, поскольку они несут ответственность за философию, говорят: нет, эмпиризм не является ответственным, потому что во имя различий, во имя мысли о различии, которая является эмпирицистской мыслью, он как таковой не может представить себя философски.
Что ж, я всегда пытался со своей стороны, утверждая, что я эмпирицистом не являюсь — хотя и приветствую эмпиризм, — предложить мысль о различии, которая не подпадает, которая не позволяет подчинить себя философии и определять себя как эмпиризм. Мысль о контаминации, которая отлична от эмпирической философии. Заболтавшись о контаминации, я забыл, куда метил ваш вопрос. Что вы хотели узнать насчет контаминации?
Кенан: Вопрос, которого я не задавал, такой: Какое различие вы проводите между тем видом повторения или итерации, который работает в мысли о сокрытии — о сокрытии бытия, т.е. повторения бытия как сущего — и контаминацией?
Деррида: Рискну сказать две вещи. Я не уверен. Первая относится к истине в связи с сокрытием и в качестве сокрытия. Хайдеггер рассматривает истину как опыт сокрытия, которое превращает истину в вопрос аспекта или лица, вопрос ви́дения или взгляда. Давайте вернемся к наиболее простому жесту, который заключается в накидывании или скидывании вуали. Это происходит без прикосновения к телу. Мы накрываем или раскрываем и смотрим; и несмотря ни на что Хайдеггер высказывается против теоретизма, против ви́дения или взгляда: фигура сокрытия-раскрытия — это фигура ви́дения, а не контакта. Здесь по-прежнему происходит переутверждение определенного теоретизма (хотя отнюдь не объективизма).
Второй пункт относится к контаминации через повторение. И здесь я бы сказал, что это необходимость повторения, с самого начала, жестов мысли об утверждении, необходимость введения контаминации, не как случайности, которая начинает угрожать первоначальной чистоте, но как условия теории. И здесь, например, я нередко думаю о «да». «Да» по ту сторону позиции, «да», которое не является чем-то возможным, «да» как перформатив, который обещает помнить о втором «да». Нельзя сказать «да» лишь один раз. Всегда есть второе «да».
А потому утвердительное «да» (поскольку, чтобы иметь место хотя бы один-единственный раз, оно должно повторять себя или быть повторенным), обещание повторять (ся) — это уже, стало быть, обещание памяти. Поскольку с самого начала «да» является изначально повторным, оно допускает свою контаминацию с самого начала через мимесис, через самоподражание, через восполнение, через вторичность, через производность.
Не может быть первого аминь — в ницшевском смысле, — первое «да» невозможно без «да» второго. Так начинается контаминация. Пародия, механическое, техника — да, в том числе техника. Второе «да» в первом «да» означает, что всё то, что пытаются расположить на стороне случайности — производности, опасности — как чего-то вторичного, не поддается исключению, поскольку оно всегда уже есть.
Кинан: Итак, мы можем связать проблему утверждения с вопросом о вопросе.
Деррида: Хорошо. Если и существует вопрос, в хайдеггеровском смысле, то он не является чем-то изначальным: способ или путь с самого начала не является вопрошающим. Вопрос возникает в интервале — если таковой имеется — между двумя да. Когда я утверждаю — я зову, я говорю, что хочу кто-то услышать или говорить сам. Все языки через речь предполагают «да».
Как только я открываю рот, уже имеется внятное «да». Внутри одного «да» имеется второе. И вопрос не может прийти раньше. А значит он приходит лишь между двумя да: вопрос приходит en route, по ходу или в пути. Это в каком-то смысле и есть unterwegs. Но unterwegs означает, что он не является чем-то изначальным. Он вторичен. И до вопроса — а в хайдеггеровском-то смысле нет никакого «до»-вопроса — имеется определенное утверждение.
Вармински: Этот «интервал» — это в каком-то смысле интервал контаминации.
Деррида: Это контаминированный интервал.
Вармински: Да, контаминированный или контаминирующий интервал. Считается — я не пытаюсь сейчас подводить итоги, но… — за последние шесть-семь лет в Йеле вы проводили свои семинары, и они поразительным образом располагаются на пересечении двух дискурсов: один кажется эмпирическим, другой — трансцендентальным. Прямо на пересечении вы себя и располагаете, в интервале. И вы заставляете их соприкасаться или интер-контаминироваться.
В результате возникает некий новый способ анализа: я бы даже не решился называть его «деконструкцией». Взять хотя бы тему этого года, тему авторских прав, закона об авторских правах: в курсе по «философскому национализму», например, вопросы, которые казались вопросами обычного национализма, и вопросы, которые содержали в себе трансцендентальные, универсализирующие рассуждения, как будто пересекаются, и там, где они пересекаются, быть может, находится пространство различания…
Деррида: Всё это так, совершенно верно, а что касается моего способа располагать себя, работать или не работать, то я, безусловно, всегда нахожусь между эмпирическим и трансцендентальным. В конце концов именно это и сказал бы мне Хайдеггер: это так, но это ничто, правда. С одной стороны, вы не пишете «Бытие и время», а с другой, вы не всерьез выполняете работу историка (национализма, авторских прав, чего угодно). Вы всегда en train de, посредине, досаждая другим.
Вармински: Впрочем, это не следует путать с эмпирицизмом, потому что именно на этом вас и поймают философы. Хайдеггер мог бы сказать: он не знает, что делает…
Деррида: Верно. Что здесь действительно нечисто, так это то, что это не хорошая история и не хорошее вопрошание бытия. Это нечистота двух планов: эмпирического и трансцендентального, что крайне двусмысленно. Она не очерчена, в хайдеггеровском смысле этого термина.
Вармински: О сложности или строгости (как оно выглядит) отрицания в pas de choira: это ни то ни другое. Это такой новый тип дискурса и т.д., и… это смешно! Мне кажется, смеются всегда в радости, с «да, да» или что-то вроде того.
Деррида: Oui oui, pas pas.
Источник и автор: Сигма








































