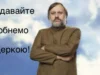Раскол в феминистском движении нельзя понимать как признак окончательного провала, но он должен стать предметом проработки ради поиска новых возможностей двигаться вперед..
Раскин-колледж был открыт в Оксфорде в 1899 году специально для мужчин из рабочего класса. С 1919 года в него начинают принимать и женщин. В 1970 году в колледже состоялась I Национальная конференция женского освободительного движения. Собрания групп за женские свободы к тому времени уже не были редкостью в Британии. Их в разной степени вдохновляло громкое женское движение в США, борьба с колониализмом и за демократию в Европе, Азии и Латинской Америке, а также женские рабочие забастовки на родине – в Дагенхеме и Халле.
Но конференция в Раскин-колледже стала для собравшихся там женщин историческим моментом опьяняющего единства. Одна из участниц, драматург Мишлен Вандор, рассказывала, что результат конференции в Раскин-колледже был “волнительным и невероятным… шестьсот женщин… чертовски готовых к тому, чтобы изменить мир и представления о женщинах”.
На конференции было выдвинуто несколько требований: равенство оплаты труда, доступа к образованию и право на труд; бесплатная контрацепция; аборты по требованию; бесплатные круглосуточные детские сады. Однако эти требования (хотя они в основном до сих пор не выполнены) не вполне соответствуют тем радикальным изменениям, которых пытались добиться женщины с конференции в Раскин-колледж.
Как пишет Шейла Роуботэм в недавно увидевших свет мемуарах “Смелость надеяться: моя жизнь в 1970-е годы”, историк-феминистка и одна из организаторов конференции, такие результаты казались тогда легко достижимыми и неамбициозными. “Реформы не затрагивали основ неравенства, от которого страдали женщины из рабочего класса”, – пишет она, – “и никак не влияли на широко распространенное чувство угнетения и социальной неустроенности, которое испытывали многие молодые женщины такие как я – представители среднего класса с университетским образованием”.
Для Роуботэм и других социалистических феминисток, преобладавших в британском женском движении, освобождение женщин было связано с демонтажем капитализма. Но оно также требовало – и здесь они расходились с левой старой гвардией – переосмысления моделей повседневной жизни, связанных с сексуальностью, любовью, работой по дому, воспитанием детей.
На самой известной фотографии с конференции в Раскин-колледже мы видим не женщин, а мужчин – мужчинам-партнерам было поручено организовать детский сад на выходных. На черно-белой фотографии двое мужчин сидят на полу в окружении маленьких детей; один из них, знаменитый теоретик культуры Стюарт Холл, прижимает к груди спящего малыша и многозначительно смотрит в камеру.

У многих современных британских феминисток, особенно тех, кто застал период освободительного движения, конференция в Раскин-колледж вызывает одновременно ностальгию и веру – надежду на то, что то, что не сбылось все еще может осуществиться. В феврале прошлого года в Оксфордском университете состоялось мероприятие, посвященное пятидесятилетию конференции в Раскин-колледж. Никаких известных фотографий с него опубликовано не было, но зато у нас есть печально известное видео с YouTube. На нем видно, как присутствующие требуют объяснить, почему Селина Тодд, историк-феминистка, которая преподает в Оксфорде и которая первоначально должна была выступить на собрании с докладом, была “депладформирована”, лишена права голоса.
На самом деле, ее выступление сняли после того, как другие докладчики пригрозили бойкотом из-за ее участия в работе организации Woman’s Place U.K., которая выступает за исключение транс-женщин из женских пространств. (Через несколько месяцев после конференции стало известно, что проект по истории женщин и права, которым Тодд руководила в Оксфорде, выплатил Woman’s Place “гонорар за консультации” в размере двадцати тысяч фунтов стерлингов, что стало крупнейшим источником дохода группы в период с 2018 по 2020 год).
Одной из возмущенных слушательниц была Джули Биндел, радикальная феминистка, которая ведет кампании против мужского насилия, секс-работы и прав транссексуалов. (“Представьте себе мир, в котором живут одни транссексуалы. Он будет выглядеть как декорации к фильму “Бриолин””). Она спросила: “Как вы думаете, каково это, когда феминистке, которая всю свою профессиональную жизнь выступала … от имени бесправных женщин, заявляют, что она слишком опасна и токсична, чтобы здесь выступать?” Аудитория провела спонтанное голосование и подавляющим большинством поддержала предложение разрешить Тодд выступить, но к тому времени она уже покинула помещение.
Те, кто возмущался лишением Тодд права выступить, кроме того полагали, что организаторы мероприятия нарушили дух первой конференции в Раскин-колледж. Джон Уоттс, председатель совета исторического факультета Оксфорда, тоже так считал: “Мы полагаем, что всегда лучше обсуждать, чем исключать. Это кажется нам ключевым принципом 1970 года”. Тем не менее, и у конференции в Раскин-колледже тоже были свои исключения. Как и конференция 2020 года, посвященная юбилею этого события, в Раскин-колледже в подавляющем большинстве присутствовали белые представители среднего класса.
Одна из немногих чернокожих женщин, присутствовавших на конференции, Герлин Бин, сказала, что она “не смогла уловить актуальность” этого события “для чернокожих женщин”. (Позднее Бин стала соучредителем влиятельной Организации женщин африканского и азиатского происхождения). Независимо от того, соответствовал ли раскол на конференции в Оксфорде в 2020 году духу 1970 года, он определенно соответствовал духу более поздних эпизодов истории британского движения, поскольку линии разлома становились все более заметными уже в семидесятые годы.
Они были заметны и по другую сторону Атлантики. Женское освободительное движение в США с самого начала в конце шестидесятых годов характеризовалось напряженностью между феминистками-социалистками (или “политикос”), которые считали классовое общество первопричиной угнетения женщин, и феминистками, которые считали “превосходство мужчин” автономной структурой социальной и политической жизни.
В то же время росла напряженность между феминистками (такими как Ти-Грейс Аткинсон и Роксана Данбар-Ортиз), которые полагали сепаратизм и даже политическое лесбийство как единственно приемлемый ответ на превосходство мужчин, и феминистками (такими как “про-женские” члены группы Redstockings, основанной Суламифь Файерстоун и Эллен Уиллис в 1969 году), которые отвергали такой “персональный солюционизм” за критику гетеросексуального желания и тенденцию к превращению во врагов тех женщин, которые не участвуют в движении.
В 1978 году в английском Бирмингеме состоялась Х Национальная конференция женского освободительного движения. Самозваные “революционные феминистки” представили предложение отменить требования, выдвинутые на предыдущих конференциях, настаивая на том, что для них “смешно требовать чего-либо от патриархального государства – от мужчин, которые являются врагами”.
“Революционный феминизм появился за год до того, когда Шейла Джеффрис в лекции под названием “Необходимость революционного феминизма” упрекала социалистических феминисток за неспособность признать, что мужское насилие, а не капитализм, является причиной угнетения женщин. На конференции в Бирмингеме предложение революционных феминисток не было включено в повестку дня пленарного заседания, а когда его все-таки зачитали вслух, начался хаос: женщины кричали, пели песни, вырывали микрофон из рук друг друга. Многие участницы ушли. Это была последняя общенациональная конференция.
* * *
То, что произошло в Бирмингеме, предвосхитило то, что случилось в Барнард-колледже в Нью-Йорке четыре года спустя. Тогда появился громоотвод для противоположных течений феминизма: порнография. Антипорн-феминистки видели в порнографии идеологический полигон мужского превосходства. (“Порнография – это теория, а изнасилование – практика”, – заявила Робин Морган в 1974 году). Их феминистские оппоненты рассматривали антипорнографический крестовый поход как укрепление патриархального мировоззрения, лишающего женщин сексуальной самостоятельности.
Прошедшая в апреле 1982 года в Барнард-колледже Конференция по сексуальности напоминала, по словам одного из организаторов, “вечеринку выхода в свет” для феминисток, которые были “потрясены интеллектуальной нечестностью и унылостью антипорнографического движения”. В итоговом документе конференции антрополог Кэрол Вэнс призвала признать сексуальность в качестве не только опасной сферы, но и сферы пригодной для “опыта, удовольствия и субъективности”.
За неделю до начала конференции антипорн-феминистки начали обзванивать руководство Барнард-колледжа с жалобами, и в результате начальство конфисковало копии “Дневника Конференции по сексуальности” – сборника статей, эссе и эротических изображений для раздачи участникам. На мероприятии, собравшем около восьмисот человек, антипорн-феминистки раскидывали листовки, в которых организаторов обвиняли в поддержке садомазохизма, насилия над женщинами и педофилии.
Феминистские газеты были переполнены проклятиями в адрес конференции и возмущенными ответами. Организаторы мероприятия описывали его впоследствии как “охоту на ведьм и чистки”; Гейл Рубин, которая вела один из семинаров конференции, написала в 2011 году, что она до сих пор “в ужасе от того, что пережила там”.
В увлекательном описании этого периода истории американского феминизма под названием “Как мы проиграли сексуальную войну: сексуальная свобода в эпоху #MeToo” политолог Лорна Н. Брейсвел оспаривает традиционную версию истории так называемых секс-войн, которая представляет их как “кошачьи бои”, “междоусобные разборки исключительно между женщинами”. По мнению Брейсвел, в этой версии истории не учитывается решающая роль третьей группы интересантов – а именно либералов, которые, как она утверждает, в конечном итоге приручили как анти-порно, так и про-порно феминисток.
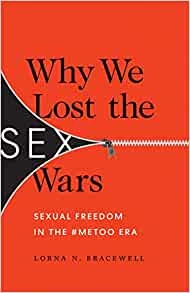
Под влиянием либеральных правоведов, таких как Елена Каган и Касс Санштейн, антипорн-феминизм отказался от своей мечты о преобразовании отношений между женщинами и мужчинами в пользу использования уголовного права для борьбы с узкими категориями порнографии. “Секс-радикальные” защитники порнографии стали, по словам Брейсвел, обычными “секс-позитивными” гражданскими либертарианцами, которые сегодня больше озабочены защитой прав мужчин на надлежащую правовую процедуру, чем культивированием сексуальных контркультур. И антипорно и про-секс феминизм, утверждает она, утратили свой радикальный, утопический импульс.
Такой своего рода диагноз “чума на оба дома” получил широкое распространение. В статье об Андреа Дворкин, опубликованной в 2019 году, Мойра Донеган написала, что “секс-позитивизм стал таким же суровым и необузданным при продвижении всех сторон сексуальной культуры, каким были антипорнографические феминистки при осуждении сексуальных практик при патриархате”. Однако неподражаемая Мэгги Нельсон в новой книге “О свободе: четыре оды о заботе и ограничении”, видит скорее пугало в столь пренебрежительных представлениях о секс-позитивности.
Она говорит, что скептики забывают о его важнейшем историческом фоне – феминистском и гей СПИД-активизме восьмидесятых и девяностых годов. Для таких активисток, пишет Нельсон, секс-позитивность была способом “настоять перед лицом злобных фанатичных моралистов, которым было все равно, живы вы или умерли (многие предпочитали, чтобы вы умерли), что вы имеете полное право на выражение своей жизненной силы и сексуальное самовыражение, даже если господствующая культура утверждает, что ваше желание – это смертный приговор”.
И Брейсвел, и Нельсон поднимают важный вопрос о том, как воспринимаются разногласия внутри феминизма. Если знаменитые расколы в левом движении, в котором преобладают мужчины – между, скажем, Эдвардорм Томпсоном и Стюартом Холлом по поводу структурализма Луи Альтюссера – рассматриваются как уроки для изыскания интеллектуальных возможностей, как дискуссии, через которые важно пройти, то феминистки склонны представлять великие “войны” из истории своего движения как сигналы об опасности или повод для стыда.
Это не означает, что феминистские дискуссии могут иметь свой собственный особый эмоциональный резонанс. Шейла Роуботэм, хотя и не прочь возобновить старые споры (особенно с Сельмой Джеймс, основательницей кампании “Заработная плата за домашний труд”), признает, что “соединение личного с политическим” может представлять особую проблему для феминистского движения: “когда появились расколы, они оказались еще более болезненными”. Она объясняет: “Теоретически я не придерживалась мнения, что, поскольку мы женщины, мы сможем стереть политические конфликты, но эмоционально, как и многие другие феминистки, я была связана представлением о том, что мы родим новую гармоничную политику”.
Я, как преподаватель, вижу подобную надежду у студентов, которые посещают мои занятия по феминизму, особенно у женщин (а их большинство). Многие из них приходят в феминизм в поисках товарищества, понимания, сообщества. Они хотят найти обобщенную истину своего опыта и познакомиться с великими феминистскими текстами, которые откроют им мир, к которому они должны политически стремиться.
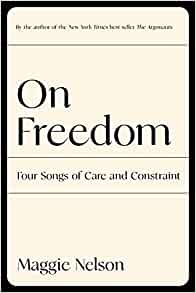
Другими словами, они хотят чего-то сродни тому, что многие женщины второй волны испытывали в группах роста политического сознания. Как сказала в 1971 году британская феминистка Джульет Митчелл, “женщины приходят в движение в результате смутной неудовлетворенности своей личной жизнью”, а затем “обнаруживают, что то, что они считали индивидуальной дилеммой, имеет социальные причины и, следовательно, является политической проблемой”.
Но мои нынешние студентки быстро находят, как и представители предыдущего поколения, что не существует монолитного “женского опыта”: их опыт зависит от классовых, расовых и национальных различий, от того, кто ты: транс- или цис-, гей или натурал, а также от менее поддающихся классификации политических различий – их отношения к власти, иерархии, технике, обществу, свободе, риску, любви. Мои студентки, в свою очередь, вскоре находят, что огромной своей массе феминистская теория полна разногласиями.
Можно им продемонстрировать, как работа над наследием этих “войн” может быть интеллектуально продуктивной, даже захватывающей. Но я чувствую, что все равно остается некоторое разочарование. Нельсон предполагает, что обращение к прошлому в поисках проблеска новы возможностей освобождения “неизбежно порождает крушение надежд на то, что кто-то, где-то, мог или должен был осуществить или обеспечить наше освобождение”. В рамках феминизма эта угасшая надежда дает “еще одну возможность обвинить своих праматерей в том, что они были недостаточно хороши”.
* * *
Ныне наиболее заметная война внутри англо-американского феминизма идет за место транс-женщин в женском движении и в категории “женщины” в целом. Многие трансэксклюзивные феминистки – Джермейн Грир, Шейла Джеффрис, Дженис Рэймонд, Робин Морган – ведут свою родословную от радикального феминизма семидесятых годов: отсюда термин “транс-эксклюзивная радикальная феминистка”, обычно сокращаемый до уничижительного TERF. Но этот термин может ввести в заблуждение. Как считают молодые феминистки, такие как Кэти Дж. М. Бейкер и Софи Льюис, современное движение трансэксклюзивности может быть связано не только с радикализирующим потенциалом социальных сетей, но и с наследием радикального феминизма.
В Великобритании активисты движения за трансэксклюзивность носят нашивки, провозглашающие, что они “радикализированы Mumsnet”, крупнейшей британской онлайн-платформой для родителей. На форумах молодых мамаш, обоснованно обиженных отсутствием материальной поддержки и социального признания, призывают направить свой гнев на “транс-лобби”.
Разговоры о “терфах” также заставляют забыть о том, что многие радикальные феминистки были транс-инклюзивными. Как отмечает философ Андреа Лонг Чу в ярком эссе 2018 года “О любви к женщинам”, набившая оскомину конфронтация по поводу места трансженщин в женском движении – например, когда Робин Морган на конференции лесбиянок Западного побережья в 1973 году объявила фолк-певицу трансгендера Бет Эллиот “оппортунисткой, инфильтратором и разрушительницей” – сложнее, чем это часто изображается.
Эллиот была не только исполнительницей песен на конференции, но и одним из ее организаторов. И когда Морган призвал проголосовать за исключение Эллиот, более двух третей участников проголосовали против. Когда Кэтрин Маккиннон, одна из самых влиятельных теоретиков радикального феминизма, начала работать адвокатом по вопросам дискриминации по половому признаку, она выбрала в качестве одного из своих первых клиентов трансвестита, сидевшего в мужской тюрьме. Недавно в интервью Маккиннон сказала: “Любая, кто идентифицирует себя как женщина, хочет быть женщиной, представляется женщина, насколько я понимаю, является женщиной”.
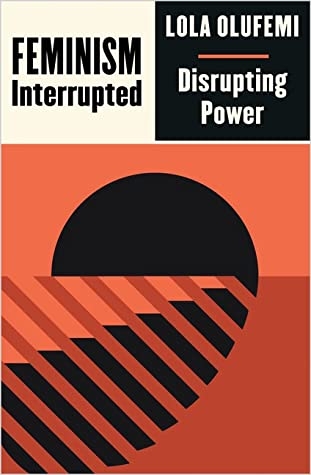
Мнение Маккиннон широко распространено и среди молодых феминисток. В книге “Прерванный феминизм” Лола Олуфеми, чернокожая британская феминистка, которая отказалась от участия в юбилейной конференции в Раскин-колледж из-за участия Селины Тодд, описывает “женщин” как “зонтик, под которым мы собираемся, чтобы выдвигать политические требования”.
Чу отмечает, что эту мысль можно в скрытом виде обнаружить уже в таком документе второй волны, как “Манифест общества по уничтожению мужчин” Валери Соланас. В утверждении Соланас, что если бы мужчины были умнее, они бы попытались превратиться в женщин, Чу видит “представление о транссексуальности как сепаратизме, мысль о том, что транзит от мужчины к женщине может выражать не просто дезидентификацию с маскулинностью, но и разотождествление с мужчинами”.
Тем не менее, есть феминистки, которые критически относятся к претензиям транс-женщин на женственность из-за идеологической приверженности тому, что они считают принципами радикального феминизма. В частности, мнение о том, что гендер является “социальной конструкцией” – что, по выражению Симоны де Бовуар, женщиной “не рождаются, а становятся”, – некоторые феминистки воспринимают так, что транс-женщины, не прошедшие “женскую социализацию”, не могут стать женщинами.
В 2015 году американская журналистка Элинор Беркет в газете “Таймс” так описала данную точку зрения: “Быть женщиной означает накопить определенный опыт, вытерпеть определенные унижения и получить конкретные знаки внимания в культуре, которая реагировала на вас как на женщину”. По словам Беркет, транс-женщины “не страдали на деловых встречах от мужчин, разговаривающих, глядя на их грудь, и не просыпались после секса в ужасе от того, что накануне забыли принять противозачаточные таблетки.
Им не приходилось сталкиваться с началом менструации в переполненном метро, с унижением обнаруживать, что зарплата мужчин, их партнеров по работе, намного больше их, или со страхом оказаться слишком слабыми, чтобы отбиться от насильников”. Но большинство современных трансэксклюзивных феминисток настаивают на том, что транс-женщины не являются женщинами только потому, что быть “женщиной” – это вопрос биологического пола. Женщины, как они любят говорить (а в Великобритании – еще и рисовать на рекламных щитах), “это взрослые человеческие самки”.
Современные трансэксклюзивные феминистки обычно заявляют, что они стремятся разрушить гендерную систему, которая угнетает девочек и женщин. Однако они склонны укреплять господствующее мнение о том, что определенные тела должны выглядеть определенным образом. Хотя официально они выступают на стороне буч-лесбиянок, которым, по их словам, экзистенциально угрожает “гендерная идеология”, трансэксклюзивные феминистки поддерживают законы, которые делают доступ таких женщин в общественные места опасным: после начала “войны за туалеты” буч-лесбиянки в Великобритании все чаще сообщают, что им не дают пользоваться женскими туалетами.
К тому же, феминистки, не приемлющие транссексуалов, часто критикуют транссексуалок за то, что они перинимают стереотипную женственность. Несколько лет назад британский философ Кэтлин Сток написала в Твиттере: “Я отвергаю регрессивные гендерные стереотипы в отношении женщин, и отчасти поэтому я не буду подчиняться идеологии, которая настаивает на том, что женственность – это чувство, а затем обналичивает это в сексистских терминах прямо из 50-х годов”. В новой книге “Материальные девушки: почему реальность важна для феминизма”, Сток отступает от этой позиции: “Кажется странным обвинять транс-женщин за их тягу к регрессивным стереотипам, связанным с женщинами, когда, очевидно, так много не-транс-женщин также тянутся к ним”. Однако она сдается не до конца.
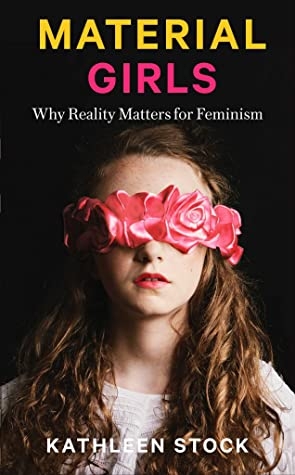
По ее мнению, транс-имммерсивность “фикции”, что человек принадлежит к “противоположному” полу в связи с сильной идентификацией с ним – это вид гендерно-неконформного поведения, к которому можно относиться терпимо, но только до тех пор, пока это не представляет какого-либо риска для нетрансгендерных женщин. Для Сток эта планка настолько высока, что она не уверена, что даже использование правильных местоимений в отношении транссексуала поможет ее преодолеть.
Недавно одна журналистка сказала мне, что считает “гротескным” принятие женственности одной трансгендерной женщиной. Когда в 2018 году Amnesty International попросила Шон Фей, автора яркой книги “Проблема трансгендеров”, которая представляет собой требование освобождения транссексуалов, провести мероприятие под названием “Женщины делают историю”, одна феминистка опубликовала в Твиттере ее фотографию с подписью: “Биологический мужчина, выступающий в роли надувной куклы”.
В то же время трансэксклюзивные феминистки часто высмеивают транс-женщин, у которых так и не получается сойти за цис-женщин. В 2009 году Джермен Грир написала о “людях, которые считают себя женщинами, носят женские имена, женскую одежду и покрывают себя тоннами теней для век, но которые кажутся… своего рода отвратительной пародией на женщин”. И такие феминистки, как правило, пренебрежительно относятся к небинарным людям, которые в своем отказе от гендерных различий имеют все основания претендовать на то, чтобы быть самым настоящим авангардом гендерного аболиционизма.
Сторонники транссексуалов обычно проводят различие между гендерной идентичностью (ощущают ли люди себя мужчинами, женщинами или кем-то еще) и гендерным выражением (насколько “женственными” или “мужественными” они себя представляют). На самом деле, это различие не всегда четко выражено. Американская психиатрическая ассоциация, которая отличает гендерную идентичность от гендерного самовыражения, в качестве критерия для идентификации трансдевочек называет “серьезное неприятие типично мужских игрушек, игр и занятий, а также устойчивое избегание грубых и жестоких игр”, а для трансмальчиков – “сильное неприятие типично женских игрушек, игр и занятий”.
Исполнительный директор Mermaids, британской службы поддержки транс- и небинарных детей, рассказала о своей маленькой транс-дочери, что до того, как ребенок узнал свой пол, “вещи, которые она делала, предпочтения, которые у нее были, то, как она себя вела, не вписывались в то, что я считала типичным поведением мальчика”.
Трансэксклюзивные феминистки склонны интерпретировать такие заявления как ложные предположения о том, что быть мальчиком – значит быть склонным думать, чувствовать и вести себя стереотипно “мальчишескими” способами, а быть девочкой – значит испытывать склонность думать, чувствовать и вести себя стереотипно “девчачьими” способами. С этой точки зрения, девочек-сорванцов и женственных мальчиков либо не существует (они на самом деле являются транс-мальчиками и транс-девочками), либо они являются девиацией.
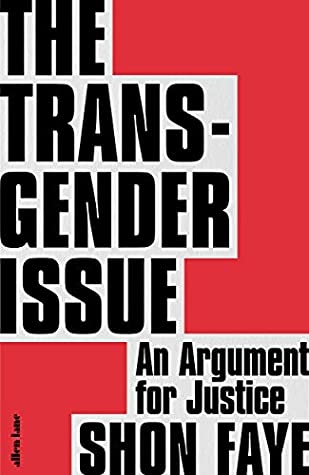
Но, как отметила философ Криста Петерсон, если рассматривать гендерное поведение как свидетельство гендерной идентичности, то не обязательно при этом предполагать, что гендер – это вопрос склонности к гендерным стереотипам. Например, может оказаться, что транс-мальчиков привлекает делать стереотипные “мальчиковые” вещи, потому что они сначала идентифицируют других мальчиков как представителей своего пола и, как следствие, заимствуют поведенческие паттерны из того, что делают и ожидают от большинства других мальчиков.
Это означает, что люди могут иметь врожденную гендерную идентичность, которая выражается исторически и культурно обусловленными способами. Такая точка зрения требует отказаться от тезиса, дорогого некоторым феминисткам, о том, что люди рождаются без каких-либо врожденных гендерных свойств. Но это не означает, что быть мужчиной или женщиной – это значит быть стереотипно мужественным или женственным.
Все это весьма тонкие различия. Но мало кто из транс-эксклюзивных феминисток интересуется тонкостями того, что транс-персоны говорят о себе. Одни транссексуалы, рассказывая о себе, ссылаются на идею врожденной гендерной идентичности, а другие – нет. Мемуары Кейт Борнштейн “Странная и приятная опасность”, написанные в 2012 году, имеют подзаголовок “Правдивая история милого еврейского мальчика, который присоединился к церкви саентологии и покинул ее двенадцать лет спустя, чтобы стать прекрасной леди, которой она является и сегодня” – прямое отрицание идеи о том, что гендерный переход – это обязательно вопрос социального признания того пола, которым человек всегда уже был.
В книге “Переход: мемуары” (1999) Дейрдра Макклоски сравнивает период перехода с иммиграцией: “Я посетила женское царство и осталась там”. В книге “Квартира на Уране” Пол Б. Пресьядо описывает свой переход как процесс “не перехода из одной точки в другую, а жизни в форме блуждания и присутствия-между. Постоянная трансформация, без фиксированной идентичности, без фиксированной деятельности, адреса или страны”.
Шон Фей пишет: “Меня часто удивляют и возмущают обвинения в том, что поскольку я транс-женщина, я являюсь сторонником идеологии или программы, которая верит в “розовые и голубые мозги”, или во врожденную гендерную идентичность, которая не зависит от общества и культуры. Я не верю ни во что подобное”. Пренебрежение такими свидетельствами, похоже, облегчает трансэксклюзивным феминисткам отрицание правды: многие транс-женщины и мужчины являются соратниками по диссидентству против гендерной системы.
* * *
Рассказы об идентичности, даже глубоко личные, всегда отражают политические условия. Нарратив “родился таким” сыграл решающую роль в борьбе за права геев и лесбиянок. Логика заключается в том, что если ты не можешь с этим справиться, то не должен быть наказан за это. В то же время, данный нарратив стал элементом сдерживания для многих геев и лесбиянок. В 2012 году актриса Синтия Никсон спровоцировала гнев ЛГБТ-активистов, заявив: “Я была натуралкой и лесбиянкой, и лесбиянкой быть лучше”. Ее обвинили в том, что она намекает на то, что быть геем – это выбор, тем самым играя на руку гомофобам.
Хотя такая реакция в 2012 году была неизбежна, разумно спросить, была бы она такой же и сегодня? Легализация однополых браков и рост признания геев в общественной жизни и массовой культуре облегчают таким геям, как Никсон, возможность откровенно говорить о психологических сложностях выбора, желания и идентичности. Аналогичным образом, если бы транссексуалы получили правовую защиту и общественное признание, стали бы они свободнее говорить всю правду о своей жизни? Как отмечают сами транссексуалы, истории, которые они рассказывают о себе – в первую очередь, когда пытаются удовлетворить требования медицинских работников, – зачастую нужны именно тем, кто не является транссексуалом.
В статье под названием “Голоса трансгендеров”, которая находится в ее новом сборнике “О насилии вообще и о насилии в отношении женщин”, психоаналитик Жаклин Роуз пишет о преемственности в жизни транс- и цис-: “Как бы горячо они того ни желали… переход редко дает транссексуальной женщине или мужчине неоспоримую уверенность в том, кто они есть… Скорее, судя по их собственным словам, этот процесс открывает вопрос о сущности сексуальности, на который чаще всего невозможно дать однозначный ответ. Это, конечно, справедливо для всех людей.
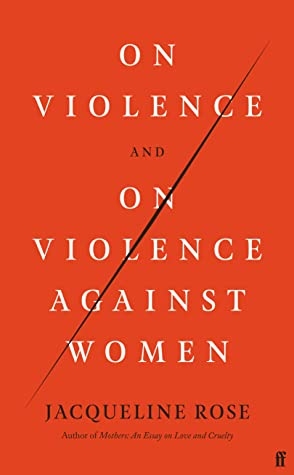
Барьер сексуального различия безжалостен, но это не значит, что те, кто считает, что подчиняется его закону, имеют хоть малейшее представление о том, что происходит под поверхностью, но и не больше, чем тот, кто подчиняется менее охотно… Женщина или мужчина цис-, то есть не-транс, – это приманка, продукт многочисленных репрессий, чьи непрожитые истории всплывают по ночам в наших снах”.
Роуз утверждает, что мы все так или иначе пытаемся бороться с дискомфортом при помощи приспособления к бинарной системе, которая никогда не сможет отразить всю сложность человеческой психики. Какие формы приспособления наказываются, а какие – разрешаются, является вопросом политическим. И поэтому Роуз считает, что каждый, кто враждебно относится к трансгендерам, должен спросить самого себя: “А за кого ты себя выдаешь?”
Проводя параллель между опытом транс- и нетранс-людей, Роуз попадает в сложную ситуацию. Часто считается трансфобией предполагать, что цис-люди знают что-то о гендерной дисфории, которую Фэй определяет как “сильное чувство тревоги, стресс или ощущение несчастье”, и которое испытывают некоторые транс-люди в связи с физическими признаками пола и гендеризованными способами, которыми эти признаки заставляют других реагировать на них. (Некоторые считают, что гендерная дисфория – это просто состояние транссексуала, и поэтому, по определению, ее испытывают только транссексуалы).
Утверждение, что цис-люди могут испытывать нечто схожее с гендерной дисфорией, вызывает беспокойство у защитников прав трансгендеров; они опасаются, что это подтверждает идею о том, что, например, нет транс-мальчиков, а есть только запутавшиеся цис-девочки. Однако Роуз выглядит убедительной, когда говорит, что мы выиграем, если признаем, что определенные переживания – например, острый стресс, который испытывают некоторые нетранс-девочки, когда их тело проходит через пубертат, и ужас, который пубертат вызывает у многих транс-мальчиков – могут по-разному говорить о боли, вызванной “барьером сексуального различия”.
В книге “Проблема транссексуалов” Фэй, которая цитирует определение Андреа Лонг Чу гендерной дисфории как “чувства, похожего на разбитое сердце”, следует общепринятой линии, что “гендерная дисфория – редкий опыт в обществе в целом… что может затруднить ее объяснение подавляющему большинству людей”. Это правда, что очень небольшой процент людей испытывает достаточно сильные переживания по поводу своего тела, чтобы нуждаться в гормональном или хирургическом вмешательстве.
Верно и то, что многие женщины, не являющиеся транссексуалами, знают, что такое душевная боль, вызванная телом, которое предает – которое отягощает вас ненужной грудью и бедрами; которое превращает вас из активного субъекта в объект мужского желания; которое, в каком-то унизительном смысле, не является отражением того, кто вы есть на самом деле. Это не значит, что характер, интенсивность или продолжительность такого стресса одинаковы для транс и нетранс женщин. Но как мог бы выглядеть разговор между женщинами, транс и нет, если бы он начинался с признания подобной преемственности опыта?
Как и Роуз, Фэй видит связь между освобождением трансов и более широким проектом человеческой свободы. “Мы являемся символами надежды для многих нетранс-людей”, – пишет Фэй, – “которые видят в нашей жизни возможность жить более полно и свободно”. Но Фэй также остроумно замечает, что именно чувство возможности, заключенное в жизни трансов, может стать движущей силой трансэксклюзивной политики.
“Вот почему некоторые люди ненавидят нас: их пугает сияющая роскошь нашей свободы”, – предполагает Фэй. Журналистка, которая назвала “гротескным” принятие женственности трансженщиной, также выразила недовольство трансмальчиками, которые перевязывают грудь. В отличие от них, сказала она, ей, как девочке, говорили, что нужно любить свое тело.
Трансэксклюзивные феминистки часто осуждают то, что они считают поощрением, которое получают транс-мальчики, когда они изменяют свои тела, вместо того, чтобы приспосабливаться к ним. Иногда в их неодобрении я также улавливаю шепот чего-то сродни подавленного желания. В вирусной статье от 2020 года, в которой она подробно описала свою “глубокую озабоченность по поводу роста влияния движения за права транссексуалов” на молодых людей, Джоан Роулинг написала: “Мне интересно, родись я на тридцать лет позже, захотелось бы мне попробовать гендерный переход? Думаю, что жажда бегства от женственности была бы огромной”.
Учитывая поколения женщин, которым пришлось учиться жить в женских телах, что означает, спрашивает Роулинг и многие другие, что все большее число молодых людей предпочитают этого не делать? И учитывая, что для многих эта жизнь в качестве женщин является болезненным опытом, какое право имеют транс-женщины претендовать на этот опыт как на свой собственный? “Как бы я ни признавала и ни одобряла право мужчин сбросить мантию мужественности, – пишет американская журналистка Элинор Беркет, – они не могут претендовать на права трансгендерных людей, попирая мое право женщины”.
Такое чувство, что чужая жизнь, прожитая по-другому, каким-то образом оскорбляет мою собственную, является политическим феноменом знакомым разным поколениям. Мы наблюдаем подобное, как мне кажется, у некоторых женщин старшего возраста, которые говорят молодым женщинам из #MeToo, чтобы те были сильными – поскольку таковыми они стали в силу враждебных обстоятельств – а также у некоторых геев поколения СПИДа, которые не могут примириться с тем фактом, что многие молодые геи, благодаря препарату PrEP, наслаждаются свободой сексуальной распущенности.
Покойная Энн Снитоу, основательница группы “Нью-Йоркские радикальные феминистки” второй волны, неоднократно предостерегала от ностальгии. “В интересах феминисток всех поколений изобретать и заново создавать более сложные, устойчивые и сексуально любопытные направления феминистской мысли и активизме”, – писала она. Когда Снитоу умерла в 2019 году, Сара Леонард, редактор и основатель нового социалистическо-феминистского журнала Lux, написала, что та была “единственным человеком, которого я когда-либо встречала, которому, казалось, не угрожало разрушение категорий, основополагающих для ее области, и перестройка этой области последующими поколениями. Она наслаждалась переменами”.
* * *
В книге “Как мы проиграли сексуальную войну” Лорна Брейсвел высказывает предположение, что движение за освобождение женщин могло бы сохранить свою радикальность, если бы уделяло больше внимания своим чернокожим участницам и участницам из стран третьего мира. Цветные феминистки с обеих “сторон” сексуальных войн – Элис Уокер, Патрисия Хилл Коллинз, Черри Морага, Мирта Кинтаналес – предостерегали от использования власти карцерального государства для решения проблем сексуальных патологий и представляли себе обретение сексуальной свободы за счет искоренения расизма и империализма.
Сегодня активисты охотно соглашаются с тем, что феминизм должен быть “интерсекциональным”, то есть внимательным к сложным способам, которыми патриархат отражается на расе, классе и других осях угнетения. И все же интерсекциональность часто рассматривается как преимущественно внутренняя для феминизма проблема. В недавно состоявшейся беседе с Барбарой Смит, одним из авторов Коллективного заявления реки Комбахи 1974 года, основополагающего документа интерсекциональнного феминизма, чернокожая феминистка Лоретта Дж. Росс заметила: “В семидесятые, восьмидесятые и девяностые годы наша организация была гораздо более межнациональной, чем сегодня”.
“Непосредственный персональный интернационализм”, – пишет Шейла Роуботэм, – “был очень важной частью сестринства”. В ее мемуарах представлены поездки к женским движениям Германии, Италии, Испании, Греции и Франции; описано, как она занималась записками подруги о вьетнамской женской делегации; есть место исследованию роли женщин в национально-освободительном движении на Кубе и в Алжире.
В Соединенных Штатах за книгой “Сестринство – это сила”, популярной антологией работ американского женского освободительного движения, вышедшей в 1970 году под редакцией Робин Морган, в 1984 году последовала публикация книги “Глобальное сестринство”, сборника статей о женском движении в почти семидесяти странах, каждое из которых было написано феминистским теоретиком или активисткой, работающей на месте.
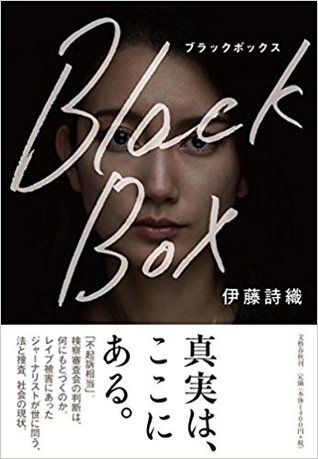
В англо-американском феминизме такой интернационализм в значительной степени угас. Это, несомненно, связано с более широким контекстом упадка международного рабочего движения, с общей англо-американской тенденцией к замкнутости, и, возможно, с Интернетом, который дал нам слишком много для чтения и одновременно коррумпировал нашу способность все это читать. В наши дни может показаться, что, поскольку феминизм так распространен, так часто фигурирует в списках бестселлеров, учебных планах и Твиттере, мы уже все о нем знаем. Но, как это ни удивительно, нам еще многое предстоит узнать.
Книга Шиори Ито “Черный ящик”, которая вышла на английском языке в этом году, представляет собой захватывающий рассказ от первого лица о попытке японской журналистки добиться справедливости после того, как она была изнасилована известным телеведущим. Впервые опубликованная в Японии в 2017 году, ее книга заняла центральное место в японском движении #MeToo, показав, как культура и история страны формируют особый режим мужского сексуального превосходства. Эту книгу полезно прочесть параллельно с книгой Шанель Миллер “Знай мое имя”, ее мемуарами 2019 года о сексуальном насилии со стороны студента Стэнфорда Брока Тернера.
8 марта 2017 года миллионы женщин более чем сорока стран приняли участие в глобальной Женской забастовке. Она возникла во многом благодаря усилиям аргентинских и польских феминисток, которые смогли создать мощные движения в своих странах. Две наиболее важные работы, появившиеся в рамках нового интернационалистского феминизма, – это “Феминистский интернационал: как все изменить” Вероники Гаго и “Феминистский антифашизм: контрпубличность общего” Евы Маевской.
И Гаго, и Маевская – центральные фигуры аргентинского и польского феминизма соответственно – документируют практику создания масштабных радикальных коалиций, что является достижением, которое до сих пор не удавалось англо-американским феминисткам. Создание таких коалиций, пишет Гаго, “было не спонтанным. Над ним пришлось терпеливо работать и долго настраивать”.
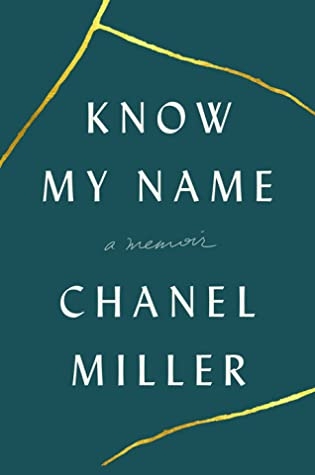
Обе книги также открывают новые теоретические горизонты. Маевская утверждает, что “феминистская контрпубличность” Глобального Юга и “полупериферии” (включая Польшу) является сегодня самой мощной силой против подъема фашизма. Она выступает за политику “слабого сопротивления”, которую она называет так, подражая Вальтеру Беньямину, в противовес привычной модели героизма. Гаго в свою очередь показывает, как “феминистская забастовка” выходит за рамки традиционных параметров – профсоюзы, вопрос заработной платы, мужчины-рабочие, мужчины-начальники – и вовлекает секс-работников, коренное население, безработных, работников неформальной экономики, домохозяек.
Она обсуждает “генеральную ассамблею” как абстрактную идею (“ситуативно распределенный аппарат коллективного разума”) и конкретную политическую тактику, которая позволила аргентинским феминисткам добиться удивительных результатов. На одной ассамблее, проходившей в трущобах Буэнос-Айреса, жительницы района объяснили, что они не могут бастовать, потому что заведуют общественными столовыми и должны кормить нуждающихся жителей, особенно детей. В конце концов, ассамблея нашла решение: эти женщины объявят забастовку, раздавая неприготовленную еду и отказываясь от труда по приготовлению пищи и уборке. Массовые движения создаются, утверждает Гаго, не путем смягчения требований или сужения их масштабов, а путем настаивания на радикализме.
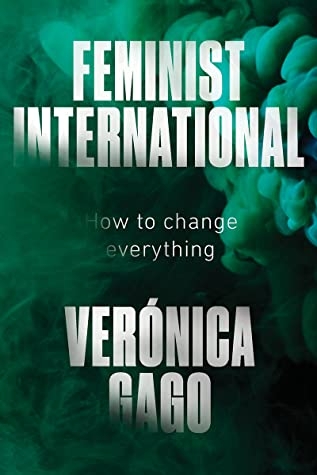
Подобное упорство также заметно в том, что Гаго и Маевская настаивают, чтобы феминизм включал в себя не только людей, традиционно считающихся женщинами. По их словам, он должен включать транссексуалов, квир, представителей коренных народов и рабочего класса. Хотя борьба за права на аборт была критически важной как для аргентинского, так и для польского движений, ни одно из них не делало значительного акцента на “женской биологии” – возможно, это урок для тех, кто считает, что массовая феминистская солидарность не может быть построена на каком-либо другом фундаменте.
Для Гаго и Маевской биологический эссенциализм – враг массовой политики; в конце концов, в обеих странах, как и в большинстве других стран мира, силы, которые вошли в сговор по подавлению натуральных цисгендерных женщин, также вошли в сговор против геев и транссексуалов. (В Аргентине и Польше главным противником “гендерной идеологии” являются не другие феминистки, а католическая церковь).

Тем не менее, разногласия все еще есть. Во всем “Феминистском интернационале” Гаго постоянно использует выражение “женщины, лесбиянки, транссексуалы и травести” – последний термин используется некоторыми латиноамериканскими транссексуалками, особенно секс-работницами. В сноске Гаго объясняет, что эта формулировка “является результатом многолетних дебатов” и призвана подчеркнуть “инклюзивный характер движения за пределами категории женщин”. В 2019 году была сорвана ассамблея, организованная феминистским коллективом Ni Una Menos, когда члены Feministas Radicales Independientes de Argentina – которая была создана в 2017 году для противостояния патриархату, капитализму, проституции и признанию трансвеститов женщинами – потребовали дать им слово.
Другие присутствующие кричали в знак протеста, а один из них, предположительно трансженщина, физически напала на радикальную феминистку. После этого Ni Una Menos выпустила заявление, в котором предложила на следующей ассамблее принять предложение об официальном закреплении того, что, по словам организации, коллективно согласовано: трансэкслюзивным феминисткам не будет предоставлена трибуна на будущих встречах. “Аргентинское движение является трансфеминистским”, – утверждала одна из участниц.
“Именно так оно и выросло, благодаря присутствию трансов и трансвеститов. Мы обязаны им существованием движения, поэтому их включение не подлежит обсуждению”. По мнению Гаго, стремление к “неожиданным альянсам” делает разногласия неизбежными, но не является источником проблем. “Когда мы не знаем, что делать, – пишет она, – мы созываем ассамблею”.

Источник: The New Yorker