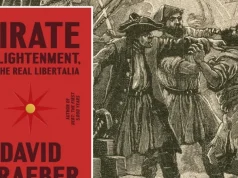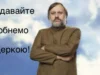Самой свежей попыткой изобразить Оно-машину является “Катла”, исландский телесериал, который усложняет логику Оно-машины, делая ее морально гораздо более неоднозначной.
События сериала происходят в Вике, небольшом исландском городке, расположенном на краю Катлы, действующего вулкана, который активен уже больше года, поэтому Вик покрыт постоянно выпадающим пеплом. Большинство жителей городка уже уехали, остались только несколько упрямых людей.
История начинается с того, что считавшиеся погибшими люди внезапно возвращаются откуда-то из окрестностей вулкана, покрытые смесью пепла и глины. Как и почему? В седьмом эпизоде сериала Дарри, геолог из Рейкьявика, отправляется под ледник, чтобы исследовать метеорит, застрявший в вулкане. Собрав несколько образцов породы, он приходит к выводу, что этот метеорит, упавший на Землю давным-давно, содержит в себе странный, чужеродный, но дающий жизнь элемент.
Этот элемент позволяет метеориту улавливать самые сильные эмоциональные чувства, которые испытывает каждый из жителей города, и использовать их для воссоздания пропавших людей. Реплики формируются под влиянием мыслей людей о них: они являются более утрированной версией своих реальных собратьев, цепляясь за главную черту, благодаря которой они появились на свет – своего рода более непосредственное воплощение платоновской идеи человека. Причину их возвращения объясняет местный фольклор, согласно которому подменыш появляется с определенной целью и исчезает, как только цель достигнута.
Вот основные события из первого сезона сериала. Жена начальника полиции Гисли, прикованная к больничной постели, создает своего подменыша: она делает гуманоида из воспоминаний о своем прошлом, когда она еще не была прикована к постели; и это вновь сближает разлученную пару… К Гриме, главной героине сериала, приходит подменыш ее умершей сестры Асы.
После смерти Асы Грима жила в постоянной депрессии, одержимая воспоминаниями о печальной судьбе Асы, поэтому она создала подменыша Асы, чтобы помочь ей справиться с ее исчезновением (смертью) – именно с этой целью Аса появилась вновь… Но затем появился подменыш самой Гримы, созданный ее мужем Кьяртаном, который хотел вновь почувствовать тепло Гримы. Из своих воспоминаний он сделал подменыша Гримы таким, каким Грима был до исчезновения Асы.
Таким образом, подменыш Грим была намного счастливее и ласковее, потому что трагедия не постигла ее. Настоящая Грима достаточно сообразительна, чтобы понять это, поэтому она ловит своего подменыша и предлагает ей сыграть в русскую рулетку. Настоящая Грима проигрывает, и ее подменыш занимает ее место, проявляя ласку, тепло и нежность так, что никто не замечает разницы. Мертвое тело настоящей Гримы засыпав пеплом хоронят возле дома.
Подменыш Гунхильд, моложе оригинала на двадцать лет, создана самой Гунхильд, которая обвиняла себя в генетической неполноценности своего сына, Бьорна. Она хотела перенестись в прошлое (на двадцать лет назад, когда была беременна) и исправить боль, которую причинила ребенку из-за своей неосторожности и мыслей об аборте. В конце концов, ее муж, Тор, говорит ей, что она не виновата: синдром был генетическим, и, следовательно, Гунхильд не виновата в появлении дефекта у Бьорна. В свой последний визит в больницу к Бьорну, узнав об исчезновении подменыша, Гунхильда смотрит в зеркало и ухмыляется; наконец-то она избавилась от угрызений совести, поскольку цель, ради которой был создан подменыш, выполнена.

Но почему Микаэль, сын Дарри и Ракель, появляется вновь? Поскольку метеорит создает мутантов на основе мыслей и чувств близких им людей, Микаэль может помнить только то, что помнят о нем Дарри и Ракель. Дарри всегда считал, что его сын Микаэль был опасным безумцем, и подменыш больше соответствует интерпретации Дарри, чем реальному Микаэлю. Оба родителя соглашаются, что их настоящий сын мертв, а этот призрак перед ними – всего лишь отклонение, поэтому они ведут его за руку в море и топят, пока он умоляет их не делать этого… Это действие свело их вместе, что косвенно оправдало мысли Дарри, который винил Микаэля в своем разводе.
Итак, что же возвращается из Катлы в облике подменышей? Вспомните, как Рагнар сказал Экберту: “Боги созданы людьми, чтобы давать ответы, которые люди слишком боятся давать себе”. В этом смысле (и только в этом) Катла божественна: она возвращает людям, остающимся в Вике, то, что они “слишком боятся дать себе”. Другими словами, Катла открывает темную сторону божественного: когда подменыш появляется перед субъектом, субъект не встречает в его виде возвышенную конфронтацию со своей внутренней истиной; это появление скорее основано на жестоком эгоистическом расчете.
В случае с Дарри и Ракель родители убивают подменыша, который, тем не менее, является вполне самосознающим живым существом. Они спокойно игнорируют этот факт и совершают хладнокровное убийство только для того, чтобы восстановить свои отношения. Точно так же Кьяртан хладнокровно принимает подменыша как свою старую-новую жену: она лучше подходит для его целей, ведь она – всего лишь материализованное его воображение.
Означает ли это, что я должен научиться различать реальность моего партнера и мои фантазии о нем/ней, чтобы я мог иметь дело с реальностью моего партнера, не проецируя на него/нее свои фантазии? Все осложняется тем, что каждый из нас является тем, о чем думают/мечтают другие. Другими словами, недостаточно сказать, что разделение между моим партнером и его/ее подменышем – это разделение между реальностью моего партнера и моей идеей/проекцией на него/нее. Это различие имманентно самому партнеру.
В ключевой сцене из “Катлы” Кьяртан бродит по своему дому, беседуя с обеими версиями Гримы (настоящей Гримой, которая через двадцать лет возвращается из Швеции, и ее подменышем, который выглядит так же, как и двадцать лет назад), не осознавая, что на самом деле их двое. Но не это ли постоянно происходит и с нами? Когда обычный антисемит разговаривает с евреем, разве он не делает точно то же самое? В его восприятии и действительности реальность стоящего перед ним еврея неразрывно смешивается с его фантазиями о евреях (скажем, если еврей пересчитает деньги, чтобы вернуть их мне, я восприму это как выражение неравнодушного отношения евреев к деньгам…).
Однако – и это решающий момент – мы не можем просто провести различие между “настоящими” евреями и тем, как их воспринимают другие: тысячи лет исключения и преследования евреев, а также все фантазии, спроецированные на евреев, неизбежно повлияли и на их идентичность, которая формируется отчасти в ответ на фантазии, обосновывающие их преследование.
Общий вывод, который следует здесь сделать, заключается в том, что разрыв между мной и моей символической идентичностью не является внешним по отношению ко мне: именно это означает, что я символически кастрирован. И нужно быть осторожным, чтобы не отбросить этот образ того, кем я являюсь для других, просто как форму отчуждения, того, от чего я должен отказаться, чтобы прийти к своему истинному “я”. Легко представить себе ситуацию, в которой другие доверяют мне и видят во мне героя, в то время как я сам полон сомнений и слабостей, поэтому мне требуются большие усилия, чтобы преодолеть свои слабости и действовать на уровне того, что видят и ожидают от меня другие.

Моральная двусмысленность подменышей в “Катле” заключается в том, что они не просто служат какой-то конкретной цели или задаче. Вещь-Катла – это машина, которая просто слепо реализует наши фантазии, а мы, люди, оппортунистически используем ее в своих эгоистических целях. То, что мы игнорируем, – это субъективность, которая относится к самому подменышу. Мы должны перечитать “Катлу” через “Солярис” и сосредоточиться на моменте субъективации подменыша, который не имеет автономии, поскольку его психика содержит только то, что о нем думают другие.
В миллеровском различии между femme a postiche (фальшивой) и женщиной, которая принимает пустоту своего небытия, есть только подменыш, который в момент принятия своего небытия возникает как чистый субъект, лишенный своей субстанции, в то время как “настоящая” женщина остается фальшивой. Другими словами, аутентичная позиция – это позиция подменыша, который осознает, что он лишь материализует фантазию другого, что он существует лишь постольку, поскольку другой фантазирует о нем.
Можно ли представить себе более опасную экзистенциальную ситуацию, чем осознание того, что мое бытие не имеет никакой субстанциальной поддержки, что я существую лишь постольку, поскольку являюсь частью чужой мечты? Как писал Делез десятилетия назад, если вы попали в чужой сон, вас поимели.
Являются ли, таким образом, подменыши существами, которые соответствуют критериям субъективного идеализма Беркли в том смысле, что они существуют лишь постольку, поскольку они являются лишь содержанием чужого сознания? Здесь необходимо учесть еще одно обстоятельство: что если существование как таковое подразумевает определенное незнание? Это парадоксальное отношение между бытием и знанием вводит третий термин в стандартную оппозицию между обычным материализмом, для которого вещи существуют независимо от нашего знания о них, и субъективным идеализмом с его esse = percipi (вещи существуют лишь постольку, поскольку они известны или воспринимаются сознанием). Мы должны заключить, что существуют вещи, которые существуют лишь постольку, поскольку они НЕ известны.
Самым неприглядным примером связи между бытием и не-знанием является один из самых известных фрейдовских снов – сон о явлении “отца, который не знал, что он умер”. По Фрейду, полная формула этого сновидения звучит следующим образом: “Отец не знает (что я желаю), чтобы он был мертв”. Элизия означающего (что я желаю) фиксирует желание субъекта (сновидца). Однако при такой стандартной интерпретации теряется жуткий эффект сцены отца, который не знает, что он мертв, субъекта, который жив только потому, что не знает, что он мертв.
Итак, что если мы интерпретируем этот сон, следуя переосмыслению Лаканом фрейдовского сна об умершем сыне, который появляется перед своим отцом, произнося ужасающий упрек: “Отец, разве ты не видишь, что я горю?”. Что если интерпретировать желание, чтобы отец был мертв, не как подавленное бессознательное желание, а как предсознательную проблему, которая беспокоила сновидца? Таким образом, динамика сновидения такова: сновидец придумывает сон, чтобы заглушить свое (предсознательное) чувство вины за то, что он желал смерти своему отцу, когда ухаживал за ним; но во сне он сталкивается с чем-то гораздо более травматичным, чем его предсознательное желание смерти, а именно с фигурой отца, который все еще жив, потому что не знает, что он мертв, непристойным призраком неживого отца.
Лакан переключает внимание с захватывающей фигуры отца, который “не знает, что он мертв”, на вопрос, который таится на заднем плане: на другого субъекта (сновидца, которому в данном случае является отец), который действительно знает, что отец мертв, и, как ни парадоксально, таким образом поддерживает его жизнь, не говоря ему, что он мертв.
Вспомните архетипическую сцену из мультфильмов: кот идет, паря в воздухе над пропастью, и падает только после того, как смотрит вниз и осознает, что у него нет опоры под ногами. Сновидец подобен человеку, который привлекает внимание кота к пропасти под его ногами, так что когда отец узнает, что он мертв, он действительно падает замертво. Такой исход, конечно же, переживается сновидцем как окончательная катастрофа, поэтому вся его стратегия направлена на защиту другого/отца от знания, так что защита перерастает в самопожертвование: “О! Пусть этого никогда не случится! Пусть лучше я умру, чем он узнает”.
Это подводит нас к одной из фундаментальных функций жертвоприношения: человек жертвует собой, чтобы предотвратить познание Другого. Не об этом ли фильм Роберто Бениньи “Жизнь прекрасна”? Отец жертвует собой, чтобы его сын не узнал (что они находятся в лагере смерти), т.е. рассуждения отца можно снова передать словами Лакана: “Пусть лучше я умру, чем он узнает /что мы в лагере смерти/!”
Психоаналитическое понятие симптома обозначает реальность, которая существует лишь постольку, поскольку что-то остается невысказанным, поскольку его истина не артикулирована в символическом порядке, вот почему правильная психоаналитическая интерпретация имеет эффект в реальном, т.е. она может устранить симптом.
Хотя такое представление о реальности может показаться образцовым случаем идеалистического безумия, не следует упускать из виду его материалистическую суть: реальность не просто внешняя по отношению к мысли/речи, или, шире, к символическому пространству; реальность разрушает это пространство изнутри, делая его неполным и непоследовательным. Предел, отделяющий реальное от символического, одновременно является внешним и внутренним для символического.
Вопрос в том, как мы должны мыслить структуру (Другого), чтобы из нее возник субъект? Ответ Лакана таков: как непоследовательную, не-Всю, символическую структуру, артикулированную вокруг конституирующей пустоты/невозможности. Точнее, субъект возникает благодаря рефлексивному отношению структуры к себе, которая вписывает в саму структуру ее конституирующую нехватку. Это включение в структуру того, что конститутивно исключено из нее, является “означающим, которое представляет субъект для других означающих”.
Но не впадаем ли мы таким образом в противоречие? Я существую лишь постольку, поскольку являюсь фантазией другого, и я существую лишь постольку, поскольку ускользаю от захвата другим? Решение таково: камень существует, когда о нем никто не думает, но камень просто безразличен к тому, думают о нем или нет. В случае с субъектом его существование соотносится с бытием-мыслью, но бытием-мыслью неполным. Я – это нехватка в мысли Другого, нехватка, которая имманентна мысли.

Это утверждение следует воспринимать буквально: Я не являюсь субстанциальной сущностью, которую большой Другой (символический порядок) не может полностью интегрировать/символизировать; эта невозможность большого Другого интегрировать меня ЕСТЬ я сам (вот почему Лакан говорит о зачеркнутом субъекте, $). Субъект существует постольку, поскольку Другой не знает этого, и субъект вписан в Другого через S1, господствующее означающее, которое рефлексивно отмечает в нем отсутствие означающего. Это означает, что субъект – это не реальный человек за символической маской, а самосознание самой маски в ее дистанции от реального человека.
То же самое также объясняет, почему минимальное число интерсубъективной коммуникации – не два, а три. Когда двое встречаются, они ОБА разделяются на самоощущение и символическую идентичность, и это удвоение может функционировать только при наличии третьего момента, большого Другого, не сводимого к двум. Вспомним старую историю Альфонса Алле о Рауле и Маргарите, которые договариваются встретиться на маскараде: узнав маски друг друга, они отходят в укромный уголок, снимают маски, и – сюрприз, сюрприз – он обнаруживает, что она не Маргарита, а она – что он не Рауль… Такая двойная пропущенная встреча, конечно, логический нонсенс: если он не Рауль, как он мог ожидать увидеть Маргариту, а затем удивиться, не увидев ее настоящего лица, и наоборот?
Сюрприз срабатывает, когда таким образом обманывается только один из партнеров. Однако разве в реальной жизни не случается нечто подобное двойному обману? Я договариваюсь о встрече с человеком, которого я знаю и который знает меня, и в ходе интенсивного обмена мнениями я обнаруживаю, что он не тот, за кого я его принимал, а он обнаруживает, что я не тот, за кого он меня принимал… Настоящий сюрприз здесь – для меня: тот факт, что другой не узнает меня, означает, что я не являюсь самим собой.
Тем не менее, мы по-прежнему узнаем друг друга, потому что маска, которую я ношу для других (маска, воплощающая то, что другие думают обо мне), и маска, которую другой носит для меня (воплощающая то, что я думаю о нем), в каком-то смысле более правдивы, чем то, что скрывается за маской. Как такое возможно? Здесь вступает измерение большого Другого: взаимное “что другие думают обо мне” (что я думаю о нем, что он думает обо мне…) заменяется (или сублимируется в) “что большой Другой (виртуальная сущность, предполагаемая нами обоими) думает обо мне и о нем”.
Но вернемся к “Катле”. Теперь мы можем сказать, что в случае с Оно-машиной, подменыш представляет (не другого, а) меня (его создателя) для других. Хотя это образ другого, он обозначает меня, мир моих фантазий. Как таковой, подменыш сигнализирует о неисправности символического большого Другого: большой Другой больше не является виртуальным символическим пространством, это реальная Вещь, мега-объект, который больше не обладает собственной истиной как формой, он просто материализует наши подавленные содержания.
Вот почему Оно-машина более реальна, чем большой Другой (она является частью реальности) и одновременно более субъективна, чем собственно интерсубъективное пространство большого Другого (Вещь отражает/реализует наши субъективные фантазии). Оно-машина – это первый шаг к перспективе проводного мозга, Другого, который полностью существует и десубъективирует меня, поскольку в нем рушатся сами границы внешней реальности.

Наиболее известным проектом, движущимся в этом направлении, является Neuralink, нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском и еще восемью партнерами. Она занимается разработкой имплантируемых интерфейсов мозг-компьютер (BCI), которые также называют интерфейсом нейронного управления (NCIs), интерфейсом разум-машина (MMIs) или прямым нейронным интерфейсом (DNIs). Все эти термины обозначают одну и ту же идею непосредственной коммуникации, во-первых, между усиленным или подключенным мозгом и внешним устройством, и, во-вторых, между самими мозгами.
Что за апокалипсис предвещает перспектива так называемого “постчеловечества”, открывающегося благодаря прямой связи между нашим мозгом и цифровой машиной, того, что нью-эйдж мракобесы называют Сингулярностью, богоподобным глобальным пространством коллективного сознания? Следует удержаться от соблазна объявить перспективу “проводного мозга” иллюзией, чем-то, до чего нам еще далеко и что не может быть реализовано в действительности. Такой взгляд сам по себе является бегством от угрозы, от факта появления чего-то нового и неслыханного.
Несомненно одно: мы не должны недооценивать сокрушительное воздействие коллективно разделяемого опыта. Даже если он будет реализован гораздо более скромным способом, чем сегодняшние грандиозные предсказания Сингулярности, после него все изменится. Почему? Потому что после Neuralink большой Другой больше не является загадочной Вещью-вне-нас (как Солярис или Катла); скорее, мы окажемся непосредственно в самой Вещи, мы будем парить в ней, мы потеряем дистанцию, отделяющую нас от внешней реальности.
Вот о чем, собственно, “Катла”: община маленького городка переживает кризис, вызванный стихийным бедствием, и в ней остаются лишь несколько жителей, чьи символические связи глубоко нарушены. Они больше не могут полагаться на большого Другого как на нейтральное пространство символических обменов, и, чтобы дополнить эту неудачу, они все больше и больше запутываются в паутине взаимных фантазий, которые вторгаются в их реальность, так что эта реальность теряет свою непротиворечивость.
Конечно, Оно-машина – это фикция, но это фикция с реальными последствиями, и мы можем наблюдать и измерять эти последствия в том, как многие люди реагируют на пандемию или на тепловые купола и наводнения. В теориях заговора и других параноидальных конструкциях сущности вроде подменышей рассматриваются как часть реальности.
Потенциально освобождающий аспект явления подменышей заключается в том, что то, что в нашем обычном опыте смешивается (человек перед нами и наши фантазийные проекции на него), теперь оказывается четко разделено, что несколько облегчает работу критика.

Источник: The PhilosophicalSalon