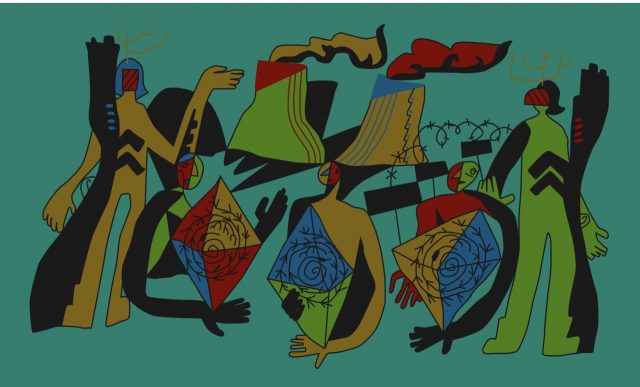Преодолевая экологический конструктивизм
В своей статье «Элементы экологии разделения» французский философ Фредерик Нейра размышляет над идеей социолога Бруно Латура о том, что разделение на природу и культуру основано на недопонимании влияния нечеловеческих акторов на наше мышление. Нейра задается вопросом: действительно ли мы преодолели «великий раздел» между наукой и природой, или же просто навязали «природному» ничем не ограниченный конструктивизм? Проблема латурианской теории, согласно философу, приводит экологическое мышление к безразличию в отношении последствий технологического производства и, как следствие, к восстановлению фигуры и ценностей Единого.
Как на уровне мышления о себе, так и на уровне принятия политических решений, Нейра призывает прокладывать «обходные пути» и создавать «гомеотехнологии» для сохранения способности совершать экзистенциальный или политический выбор в будущем. Нейра предлагает собственный взгляд на выводы из модернистской теории разделения природы и культуры, науки и политики, основанный на представлении о природе как имманентной среде медиации, обуславливающей социально-экологические и экономические отношения.
Все взаимосвязано — таков главный принцип экологии. Цель экологии разделения — оспорить этот принцип, но не для того, чтобы полностью опровергнуть его, а чтобы показать, что любая связь основывается на разделении. Другими словами, экология разделения призвана вывести на поверхность подавленное содержание экологии, а также найти способ мышления, который может служить источником вдохновения для нее. Идея взаимосвязи должна уступить место принципу разделения, который необходимо утвердить и развить, чтобы мы могли разобраться с запутанным клубком отношений, оставшимся после устранения всяких различий. Путаница — это не отношение, но его противоположность — неразличимая мешанина
Эта путаница вредит не только теории или, иначе говоря, нашей способности различать [faire la part] формы существования, но и политике. Без разделения, то есть без способности дистанцироваться внутри социально-экономической ситуации, невозможно принять реальное политическое решение или выбрать нужный путь технологического развития, поэтому нельзя ожидать и сохранения жизнестойкости (resilience), понимаемой в первую очередь как способность сделать шаг назад (1).
Во вселенной чистой непрерывности без сбоев и какого-либо внешнего мира на смену решениям приходят автоматические реакции, и становится неизбежным появление новых технологий на расширяющемся рынке антропогенных сред. Мы уже не понимаем, как различать друг друга [faire la part], как поддерживать дистанцию, как отделять себя от других (7).
Мы заворожены все увеличивающимся количеством прогнозируемых экологических катастроф, и мы продолжаем обожествлять Технологию, которая, согласно нашим ожиданиям, должна спасти нас от самих себя; каждый год мы присуждаем премию тому голливудскому сценарию конца света, который покажется нам наиболее вероятным, и восхищаемся идеей атмосферного щита, который, как обещают геоинженеры, защитит нас от изменения климата (2).
Воображение не помогает нам бросить вызов современному миру: оно не предлагает никакого альтернативного образа, никакой контр-модели; не образует романтического хранилища потерянных голосов современности, но участвует в производстве глобальной сети, в которой все живое и механическое, человеческое и нечеловеческое перемешиваются друг с другом. Мы теснейшим образом связаны друг с другом, но мечтаем о еще более тесной связи.
Экология разделения, какой бы парадоксальной она ни казалась, не отрицает наличие отношений, зон непрерывности и пересечений, не отказывается от удивительных неопределенностей, в которых различия то меняются местами, то исчезают; она ни в коей мере не стремится к восстановлению чистых онтологических идентичностей, непроницаемых разграничений и какого-либо символического порядка! (3)
Экология разделения лишь пытается сохранить подлинную политичность, которая позволяет учитывать угрожающие нам опасности, проводить различие между тем, что человек вправе создавать, и тем, что он создавать не может или не должен, установить, когда и каким образом еще можно использовать понятия «природа» и «окружающая среда». Чтобы экосистемы оставались жизнестойкими и выдерживали бедствия антропоцена, в экологии должно оставаться место для разделения.
Но невозможно освободить это место, не потеснив концепцию «экологического конструктивизма», которая его занимает. Поддерживаемый явными конструктивистами вроде Бруно Латура, любителями «прагматической экологии» (Эмили Хаш), социологами «риска» (Ульрих Бек) и «пост-энвайронменталистами» (Тед Нордхаус и Майкл Шелленбергер), экологический конструктивизм может быть распознан по нескольким характерным чертам: (1) идея о том, что все взаимосвязано, которая повторяется как мантра; (2) рассуждения о «неопределенности» как о новом deus absconditus ◻️; (3) непоколебимая вера в идеи модерна — как «рефлексивная» (Ульрих Бек)◻️, так и нет, и в технологический прогресс, ставший чувствительным к «рискам» и «непредвиденным последствиям», которые всегда возникают в «неопределенном мире»; (4) отказ от любого представления о природе и окружающей среде, что приводит к идее о том, что все есть «процесс» и, следовательно, что все есть конструкт. Именно от этого конструктивизма экологическая теория и практика и должны себя отделить.
Возможно, читатель уже разочаровался в статье из-за ее слишком «критического» уклона: где же позитив? Разве критика не несет на себе отпечаток ресентимента, зависти, порой даже несчастья — в любом случае, разве она возникает из неспособности предложить новые идеи? Правда в том, что наша экзофобная ◻️ эпоха сторонится всего негативного так же, как удержания-на-дистанции (keeping-at-a-distance) и признания бесконечности внешнего (4).
Тем не менее, новый подход к экологии невозможен без критического понимания гегемонной структуры, которая в настоящее время конституирует как теорию, так и практику экологического конструктивизма. Эта гегемония выходит далеко за пределы кругов, открыто исповедующих конструктивизм. Перечислим лишь некоторые связанные с ним концепции: «экология против природы» или «без природы»; предположение, что сегодня экологи по-прежнему мыслят природу как «хорошо сбалансированный порядок» и прекрасную «гомеостатическую» тотальность (через сорок после «экологии хаоса» Дональда Уорстера, как будто его идеи никак не повлияли на экологическую теорию); идея природы как «второй природы», которой придерживается Жижек (5), (6).
Конечно, не стоит сводить все разнообразие идей Жижека к конструктивизму, кроме того, все мы знаем о его радикальных политических взглядах; тем не менее, мы должны уметь выявлять в его философии гегемонный экологический дискурс, онтологические конструктивистские черты, которые определяют современные дискуссии и связанные с ними экономические и технологические решения.
В основе гегемонной структуры экологического конструктивизма лежит то, что Бруно Латур называет «политической экологией». Влияние Латура ощущается во многих теоретических областях, в некоторых из которых он по праву считается одним из главных мыслителей нашего времени. Латур постоянно оспаривал существование «великих разделов» (great divides); именно с ним, в частности, связано появление той самой путаницы, возникшей из-за отказа от всякого рода различий. Его теория «соединений»◻️ и акторов, «тех, кто побуждается к действию множеством других» — это путь, который заводит нас в политический тупик нашего времени: мы теряем способность делать выбор в пользу того мира, в котором мы хотим жить.
Соединениям мы должны противопоставить разъединение ◻️, что означает не побег из мира в некую воображаемую цитадель, как это представляет Латур, но скорее дистанцию внутри мира, без которой никакая политика невозможна, кроме, конечно, автоматической политики непрерывного развития и того, что можно назвать демократией экономики (подчинение политики сфере экономики). Только это расстояние даст нам возможность при необходимости сказать «нет», на что абсолютно не способен экологический конструктивизм, который считает любое ограничение проявлением суеверия и невежества.
Материальные ограничения, в отличие от моральных, есть не что иное, как другая сторона отношений, поддерживаемых живыми существами внутри экосферы. Выступая против отказа от любых представлений о природе, антиконструктивистская экология должна быть способна мыслить природу не как застывшую субстанцию и не как бесконечный процесс, а как разделяющую медиацию ◻️, как разрыв между нами и тем, что мы хотим создать; иными словами, как необходимый обходной путь ◻️.
Главный принцип экологии и экологического конструктивизма
Критика экологического конструктивизма обязана с самого начала понять, что главный принцип экологии — аксиома взаимосвязи — имеет как свою историю, так и весомое обоснование. Начиная, по крайней мере, с XIX века экологическая теория в своей научной и политической форме всегда боролась против отрицания связи: между так называемым человеком и его «окружающей средой», между промышленной революцией и разрушением условий для жизнедеятельности, между человеком и нечеловеком, между технологиями и «рисками» (Ульрих Бек) и др. Но я утверждаю, что враг в этой войне был определен неверно.
«Гуманистическое» отрицание отношений, возвышающее существование человека и отказывающее в этом существовании другим формам жизни (животным), а также «картезианство», отделяющее человеческое сознание от математизируемой и контролируемой материи, соответствуют скорее не принципу разделения, помогающему выявлять различия, а идее расщепления [clivage] и последующему уничтожению того, против чего это расщепление было направлено. Там, где разделение указывает на различия, расщепление располагает идентичности рядом друг с другом без каких-либо взаимоотношений. Иными словами, отрицание отношений основано на расщеплении, а не на разъединении.
В свете этого стоит вкратце рассмотреть историю экологической теории, то есть мышления, основанного на энвайронментализме. Оно прекрасно обосновало себя в борьбе против отрицания отношений. От создания концепта экологии Эрнстом Геккелем в 1866 г. до «гипотезы Геи» Джеймса Лавлока и Линны Маргулис, недавно переформулированной Изабель Стенгерс, через романтизм Джона Мьюра, экосистемы Артура Тенсли или этики земли Альдо Леопольда, яростное сопротивление обезлесению в начале XIX в., а также борьбу с ГМО и «противников роста» в XXI в., экологическая теория и энвайронменталистский активизм показали, в какой степени мир является «переплетенной тканью» [enchevêtrements] (Изабель Стенгерс) или сетью «соединений» (Бруно Латур).
Как в теории, так и на практике, бесконечно подтверждается, что экология — это «наука об отношениях между живыми существами». Чтобы противостоять доминирующей парадигме механистичной науки, ответственной за «смерть природы», экологическая теория снова подняла флаг органицизма и заявила о необходимости учитывать взаимосвязь между целым и его частями. Чтобы не замкнуться на себе, она должна была распространить науку о фундаментальных взаимосвязях, свойственных «природной» среде, на среду «антропогенную». Сегодня экология, поддерживаемая атмосферными химиками, предлагает, вместе с концепцией антропоцена, рассматривать человека в качестве «главной геологической» силы Земли.
Но эта модель истории игнорирует тот тупик, в котором сейчас оказалась экологическая теория. Постоянно говоря о необходимости ставить под сомнение «великие разделы» — между культурой и природой, искусственной и естественной средой, и, прежде всего, между человеком и землей — экологическая теория становится все менее и менее способной проводить различия.
Поддерживая идею о том, что природа не существует, экологическая теория невольно дрейфует в сторону конструктивизма который, часто далеко выходя за декларируемые экологическими конструктивистами рамки, затрагивает все подходы, основанные на идее о том, что, поскольку природы и условного общего мира нет, то все вновь и вновь составляет и воссоздает себя во всеобщем непрестанном развитии.
Экологический конструктивизм подталкивает плодотворные размышления о становлении в потоке непрерывных изменений, — Серра, Уайтхеда, Делёза, — к неограниченной искусственности, как если бы Лукреций заменил свои атомы и пустоту на инструменты и капитал: De rerum natura уступила место De rerum factura ◻️. Это невнимание к различиям неизбежно приводит к двум основным проблемам:
- Фантазия слияния. Вопреки общепринятому мнению, радикальные и глубинные экологи не предаются этой фантазии, потому что большинство из них живут в боли и печали как раз из-за недостаткаразделения и безудержного вторжения человека в нечеловеческие области. Экологический конструктивизм не преодолел великие разделы; его воздействие заключалось не в устранении границ — как ошибочно полагают некоторые и как жалуются реакционеры — а в колонизации миноритарного элемента этих великих разделов: таким образом, человек колонизировал нечеловеческое, а технологии колонизировали область, которая раньше называлась природой. Отсюда и возникает иллюзия «конца» великих разделов, что в итоге является ничем иным, как усилением движения, инициированного техногуманистической колонизацией модерна. Экологический конструктивизм необходимо воспринимать как нарциссическое мышление, квазиинцестное, по-нечеловески влюбленное в себя и не замечающее, что само «нечеловеческое» является продуктом его собственных активных манипуляций.
- Бескомпромиссная вера в технологии [un suivisme technologique], взращенная слепой технофилией. Современный экологический конструктивист молится на новейшие технологии и последние промышленные инновации. Он будет превозносить достоинства технологии захвата углерода, позволяющей контролировать изменения климата, до того момента, пока этот подход не продемонстрирует свою абсолютную непрактичность; все это не имеет значения, ведь появится другая технология, которая покажется ему столь же восхитительной. Вера экологического конструктивиста в геоинженерию останется непоколебимой и в конце концов приведет его к гео-конструктивизму.
Таким образом, фантазия слияния и бескомпромиссная вера в технологии очерчивают гегемонный психо-политический ландшафт, далеко выходящий за пределы конструктивистских кругов и включающий в себя самых разных мыслителей, от Жижека до Крутцена. Сложность заключается в том, чтобы понять, можем ли мы предложить иной ландшафт; альтернативную топографию.
Будущее пост-энвайронментализма
Критика экологического конструктивизма обязана с самого начала понять, что главный принцип экологии — аксиома взаимосвязи — имеет как свою историю, так и весомое обоснование.
Начиная, по крайней мере, с XIX века экологическая теория в своей научной и политической форме всегда боролась против отрицания связи: между так называемым человеком и его «окружающей средой», между промышленной революцией и разрушением условий для жизнедеятельности, между человеком и нечеловеком, между технологиями и «рисками» (Ульрих Бек) и др.
Но я утверждаю, что враг в этой войне был определен неверно. «Гуманистическое» отрицание отношений, возвышающее существование человека и отказывающее в этом существовании другим формам жизни (животным), а также «картезианство», отделяющее человеческое сознание от математизируемой и контролируемой материи, соответствуют скорее не принципу разделения, помогающему выявлять различия, а идее расщепления [clivage] и последующему уничтожению того, против чего это расщепление было направлено. Там, где разделение указывает на различия, расщепление располагает идентичности рядом друг с другом без каких-либо взаимоотношений. Иными словами, отрицание отношений основано на расщеплении, а не на разъединении.
В свете этого стоит вкратце рассмотреть историю экологической теории, то есть мышления, основанного на энвайронментализме. Оно прекрасно обосновало себя в борьбе против отрицания отношений. От создания концепта экологии Эрнстом Геккелем в 1866 г. до «гипотезы Геи» Джеймса Лавлока и Линны Маргулис, недавно переформулированной Изабель Стенгерс, через романтизм Джона Мьюра, экосистемы Артура Тенсли или этики земли Альдо Леопольда, яростное сопротивление обезлесению в начале XIX в., а также борьбу с ГМО и «противников роста» в XXI в., экологическая теория и энвайронменталистский активизм показали, в какой степени мир является «переплетенной тканью» [enchevêtrements] (Изабель Стенгерс) или сетью «соединений» (Бруно Латур). Как в теории, так и на практике, бесконечно подтверждается, что экология — это «наука об отношениях между живыми существами» (8).
Чтобы противостоять доминирующей парадигме механистичной науки, ответственной за «смерть природы», экологическая теория снова подняла флаг органицизма и заявила о необходимости учитывать взаимосвязь между целым и его частями (9). Чтобы не замкнуться на себе, она должна была распространить науку о фундаментальных взаимосвязях, свойственных «природной» среде, на среду «антропогенную». Сегодня экология, поддерживаемая атмосферными химиками, предлагает, вместе с концепцией антропоцена, рассматривать человека в качестве «главной геологической» (10) силы Земли.
Но эта модель истории игнорирует тот тупик, в котором сейчас оказалась экологическая теория. Постоянно говоря о необходимости ставить под сомнение «великие разделы» — между культурой и природой, искусственной и естественной средой, и, прежде всего, между человеком и землей — экологическая теория становится все менее и менее способной проводить различия.
Поддерживая идею о том, что природа не существует, экологическая теория невольно дрейфует в сторону конструктивизма который, часто далеко выходя за декларируемые экологическими конструктивистами рамки, затрагивает все подходы, основанные на идее о том, что, поскольку природы и условного общего мира нет, то все вновь и вновь составляет и воссоздает себя во всеобщем непрестанном развитии.
Экологический конструктивизм подталкивает плодотворные размышления о становлении в потоке непрерывных изменений, — Серра, Уайтхеда, Делёза, — к неограниченной искусственности, как если бы Лукреций заменил свои атомы и пустоту на инструменты и капитал: De rerum natura уступила место De rerum factura. Это невнимание к различиям неизбежно приводит к двум основным проблемам:
- Фантазия слияния. Вопреки общепринятому мнению, радикальные и глубинные экологи не предаются этой фантазии, потому что большинство из них живут в боли и печали как раз из-за недостаткаразделения и безудержного вторжения человека в нечеловеческие области. Экологический конструктивизм не преодолел великие разделы; его воздействие заключалось не в устранении границ — как ошибочно полагают некоторые и как жалуются реакционеры — а в колонизации миноритарного элемента этих великих разделов: таким образом, человек колонизировал нечеловеческое, а технологии колонизировали область, которая раньше называлась природой. Отсюда и возникает иллюзия «конца» великих разделов, что в итоге является ничем иным, как усилением движения, инициированного техногуманистической колонизацией модерна. Экологический конструктивизм необходимо воспринимать как нарциссическое мышление, квазиинцестное, по-нечеловески влюбленное в себя и не замечающее, что само «нечеловеческое» является продуктом его собственных активных манипуляций.
- Бескомпромиссная вера в технологии [un suivisme technologique], взращенная слепой технофилией. Современный экологический конструктивист молится на новейшие технологии и последние промышленные инновации. Он будет превозносить достоинства технологии захвата углерода, позволяющей контролировать изменения климата, до того момента, пока этот подход не продемонстрирует свою абсолютную непрактичность; все это не имеет значения, ведь появится другая технология, которая покажется ему столь же восхитительной. Вера экологического конструктивиста в геоинженерию останется непоколебимой и в конце концов приведет его к гео-конструктивизму (11).
Таким образом, фантазия слияния и бескомпромиссная вера в технологии очерчивают гегемонный психо-политический ландшафт, далеко выходящий за пределы конструктивистских кругов и включающий в себя самых разных мыслителей, от Жижека до Крутцена (12) . Сложность заключается в том, чтобы понять, можем ли мы предложить иной ландшафт; альтернативную топографию.
Будущее пост-энвайронментализма
Пост-энвайронментализм — отличный пример экологического конструктивизма. Сборник «Любите своих монстров: пост-энвайронментализм и антропоцен» (Love Your Monsters: Postenvironmentalism and the Anthropocene), вышедший в 2011 году под редакцией Теда Нордхауса и Майкла Шелленбергера, позволяет четко понять, что именно обещает этот подход: избавление от формы энвайронментализма, признанной Нордхаусом и Шелленбергером устаревшей. Как, спрашивают они, можно уменьшить экологический след от семи миллиардов людей, каждый из которых «стремится жить современной, энергозатратной жизнью»? (13)
В такой ситуации необходимо опереться на «человеческую мощь, технологию и более масштабный процесс модернизации» (p. 57). По сути Нордхаус и Шелленбергер утверждают, что не существует никаких естественных ограничений ни для человека, ни для всего остального, что называется природой. Ведь люди всегда создавали технологии, которые, в свою очередь, определяли жизни людей. Вместо того, чтобы впустую отвергать технологии, мы должны найти в них средство «спасения».
Спасение Земли не означает защиту ее от всякого контакта с человеком, ведь в действительности это невозможно: (а) как определить естественное состояние природы? Справедливое замечание: при определении естественного состояния мы не можем исходить из того, какой была природа в прошлом, поскольку экосистемы постоянно меняются; (б) аналогичным образом, как нам определить состояние природы, защищенной от человеческой деятельности, учитывая, что человек изменил экосферу сверху донизу и стал, как утверждает Пол Крутцен, «главной геологической силой»?
Таким образом, спасти Землю может только одно, и это лейтмотив экологического конструктивизма и всего пост-энвайронментализма: еще большее вторжение, то есть «создание и воссоздание [земли] снова и снова» (p. 111-112). Нам не нужно бояться дальнейшего вмешательства, наоборот, стоит избавиться от всех «апокалиптических страхов экологического коллапса», которые превратили экологию в «экотеологию» (p. 162). Этой архаичной религии противопоставляется «теология модернизации», которая рассматривает технологию как нечто «гуманное и священное» (p. 208).

Какие проблемы выявляет данный анализ? Разве это предложение не кажется здравым? Разве нам не следует согласиться с идеей о том, что технологии, даже будучи опасными, являются единственным средством, позволяющим человеку спасти себя? Выходя за рамки понимания технологий всего лишь как средств, не должны ли мы признать, что само понятие человечества без них немыслимо? Вспомним урок «Космической одиссеи 2001 года»: без черного монолита, без кости, превратившейся в космический корабль, невозможен переход от дочеловеческого к человеческому… Однако здесь нас начинают одолевать сомнения. Нордхаус и Шелленбергер полагают, что с эпохи неолита до настоящего времени способ воздействия на «нечеловеческую природу» изменился не в «качественно», а в «количественно» виде, в своем «охвате» и «масштабе» (p. 131-133).
Действительно ли это так? Неужели эпоха антропоцена знаменует собой лишь изменения масштаба воздействия человека на природу? Или это признак движения гораздо большей амплитуды, «события»? (14) Неужели с нашей стороны действительно было бы глупостью испытывать опасения по поводу будущего? Что, если глупость в смысле изумления, мешающего разумно мыслить, была присуща тем, кто превращает модернизацию в религию, а религию — в отраду от будущего безудержного развития?
Давайте сбавим обороты и подумаем, не слишком ли рано становиться пост-энвайронменталистами? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны разобраться, на что опираются в своих размышлениях Нордхаус и Шелленбергер: стоит отметить, что их сборник «Любите своих монстров» носит то же название, что и статья Латура, включенная в него. Такой выбор не может быть случайным. Он свидетельствует о том, что Латур — важный мыслитель для этих двух авторов. Это особенно заметно в их последовательном стремлении показать, что экология «устарела» (15). В следующих частях мы попытаемся продемонстрировать взаимосвязь пост-энвайроментализма и «политической экологии» Бруно Латура.
Монструозная экология
Эссе Латура «Любите своих монстров: Почему мы должны заботиться о технологиях как о собственных детях?» (Love your Monsters: Why we must Care for our Technologies as we do our Children) (16) начинается с перепрочтения «Франкенштейна» Мэри Шелли. Похожее прочтение этого романа уже было предложено в книге«Aramis, или Любовь к технологии» (Aramis, or The Love of Technology) 1992 года. В этой работе, как и в статье Латура, утверждается, что преступление доктора Франкенштейна заключалось не в его гордыне и не в трансгрессивном творчестве, а в отказе от своего творения.
Монстр стал таковым из-за своей оставленности, а не из-за своего необычного происхождения. Таким образом, «Франкенштейн» должен рассматриваться в качестве парадигмы наших неадекватных отношений с тем, что мы производим: говоря о продуктах питания (например, «франкенфуд» или «франкенфиш»), Латур показывает нам, что мы постоянно повторяем ошибку доктора Франкенштейна. Вместо того, чтобы заботиться о своих детищах, мы отвергаем их. Именно здесь главный источник наших бед (17).
Этот отказ укоренен в нашем способе мыслить себя в парадигме модерна. Вслед за анализом, предложенным в работе «Мы никогда не были людьми модерна» (We Have Never Been Modern) 1993 года, Латур утверждает, что наше восприятие себя основано на недоразумении: мы считаем, что четко разделили области науки и политики, и думаем, что именно в этом разделении заключается суть эпохи модерна; но на самом деле мы занимались конструированием нашего мира на основе бесконечной серии гибридизаций (18).
В действительности наука модерна связала научное знание и политику, человека и нечеловека, она вложила все силы в создание того, что Латур называет «соединениями»: связей между природой и научным производством (ГМО), связей, которые стали возможным только благодаря робототехнике (Латур приводит в пример роботов, отправленных на Марс), изменений климата и т.д. Верить, что мы живем в эпоху модерна, значит верить в то, что наука «освободила» нас от «природы», когда на самом деле она породила еще больше «запутанностей».
По этой причине роман Мэри Шелли, и без того романтический, будет оставаться заложником веры в модерн, которой он сам себя окружил. Такими же заложниками будем оставаться и мы: даже если диссонанс, сообщает нам Латур, между тем, кем мы считаем себя и тем, кем мы являемся на самом деле, начинает проявляться, даже если все оказывается взаимосвязано со всем, а наличие соединений становится все более и более очевидным, мы продолжаем отрицать это, отрицать эту экологию избытка, которая привязывает человека к нечеловеческому: к ГМО, к бактериям, к Земле. Почему?
Потому что вера модерна, какой бы ошибочной она ни была, оказала свое влияние: веря, что наука освободила природу, мы признавали существование Великого Раздела между нами и остальным миром. Все, чего мы добились, воплотилось в наших технологиях и прогрессе, побочным эффектом которых стали загрязнение окружающей среды, дыра в озоновом слое, Чернобыль. Как утверждает Латур, экологические катастрофы являются аналогами Франкенштейна постольку, поскольку наши представления берут начало в Великом Разделе: противопоставлении культуры-технологии-человека природе-нечеловеку. Но все меняется, или будет меняться, если мы поймем, что все связано друг с другом.
Все изменится, если мы осознаем: наука никогда не переставала соединять природу и культуру, пока не появилось то, что Латур называет «природой-культурой» (с. 106-107). На самом же деле, если все взаимосвязано, то побочный эффект или, по крайней мере, «нежелательные последствия» прогресса неизбежны: новая технология обязательно, хотите вы того или нет, повлияет на нас и на то, что называется «окружающей средой» (19).
Так же как Мишель Серр и Ульрих Бек, Бруно Латур заявляет, что у концепции окружающей среды истек срок годности. Фактически, она основана на ошибочном, но несущем реальные последствия разделении между человеком (в центре) и его (окружающим) миром (20). Другими словами, как утверждает Латур, мы начали говорить об окружающей среде в тот самый момент, когда пришли к пониманию, что ее не существует! Эта идея лежит в основе концептуальной стратегии Нордхауса и Шелленбергера: они упрекают экологов в том, что те верят в окружающую среду, как в «нечто, отдельное от человека», от человека, который представляет себя «отделенным» от «естественного мира» и «возвышающимся» над «миром природы» (21).
Но вместе с концептуальным и реальным исчезновением окружающей среды, как по мановению волшебной палочки исчезают и монстры: монструозное становится нормальным! Вместо того, чтобы удивляться каким-то «нежелательным последствиям», вызванным новой технологией, появившейся на мировом рынке, мы должны, напротив, заботиться о наших детищах, обращая внимание на последствия их создания. Вместо того, чтобы дистанцироваться от своих творений, «отступать, как англичане с побережья Дюнкерка в 1940-м» (22), оставляя так называемую природу в покое, Латур призывает нас «внедряться еще больше» (p. 348).
В этом смысле «окружающая среда — это именно то, что должно быть еще более управляемым», контролируемым, «интегрированным в политическое» (p. 344). Все в большей и большей степени мы должны становиться, как говорил Декарт, «хозяевами и собственниками природы», но при условии понимания человеком того, что это «господство» проявляется во все большей «соединенности» «вещей и людей» (pp. 383-400). Больше соединенности, больше господства, больше вторжения: вот с чем бы согласился Пол Крутцен (23).
Урок номер один: разница между Хансом Йонасом и Бруно Латуром огромна. Первый в своей работе «Принцип ответственности» говорит о «вечно оторванном от других Прометее» и беспокоится, как и большинство экологов, об ограничении воздействия человека на природу (24), второй, напротив, развивает идею прометеизма без комплексов; своего рода гиперпрометеизм.
Там, где мы, люди модерна (те, кто считает себя таковыми), Йонасы и все те, кто желает «уйти» в себя, напоминая карикатуру на религиозных людей прошлого, как бы говорим: «Не грешите», Латур и его друзья Нордхаус и Шелленбергер отвечают: «Все преодолеем» (25). Согласно точке зрения последних, мы должны преодолеть свою робость с помощью технологического вмешательства, перестать жить в постоянном страхе и тем самым в конце концов стать Прометеем, которым не можем не быть — ведь мы существа, жизнь которых поддерживается технологией, мы Терраформеры нашей собственной планеты.
Мы всегда жили в эпоху модерна, или да здравствует развитие!
Однако у Латура и Нордхауса с Шелленбергером есть одно отличие: Латур критикует ложное сознание первого, «нерефлексивного», модерна, не принявшего на себя «риски» (У. Бек), а Нордхаус и Шелленбергер верят в непосредственную и одностороннюю «теологию модернизации». При этом у Латура и пост-энвайронменталистов один и тот же объект критики: отказавшиеся от развития. Другими словами, они критикуют тех, кто хочет перейти «от гордыни к аскетизму», как Латур пишет в расширенной версии «Любите своих монстров», которая носит красноречивое название «Это развитие, тупица!» (It’s Development, Stupid!) (26).
В сноске Латур объясняет североамериканским читателям: «”Décroissance” — это термин, используемый некоторыми французскими группами» для описания такого рода аскетизма (27). Конечно, Латур считает, что те, кто хочет «уйти», также верят в существование Великого Раздела между людьми и нелюдьми. В «Политиках природы» 1999 года, Латур критиковал экологов за «экоцентризм» с его неизменной верой в природу и необходимость сохранять ее в нетронутом виде (28). В качестве яркого примера такой позиции можно привести глубинных экологов, которые были исключены из дискурса экологической политики (p. 43); в 2011 году объектом критики была уже не глубинная экология, а идея décroissance (антироста).
По мнению Латура, сторонники этой концепции слишком «глупы», чтобы понять необходимость развития. Конечно, все те, кто верит в Великий Раздел, глупы для Латура; но еще большие и еще более опасные дураки — это те, кто не только верит в Раздел, но и подтверждает и укрепляет его своим «аскетизмом» его. Они опасны тем, что не понимают, в какой момент необходимо дальнейшее технологическое вмешательство для решения экологических проблем. Как и Нордхаус с Шелленбергером, Латур считает нужным определить «пределы понятия пределов» (29), а также «иметь больше развития, а не меньше» (p. 3): «цель политической экологии, — пишет Латур, — не в том, чтобы прекращать изобретать, создавать и вмешиваться» (30).
Как у Нордхауса с Шелленбергером, у Латура имеется железная вера в то, что спасение приходит благодаря технологическому развитию. В этом смысле — и это то, что нам нужно понять — как и Нордхауса с Шелленбергером, Латура без колебаний можно назвать мыслителем модерна. Разумеется, Латур не считает себя таковым, ведь «между модернизацией и экологизацией нужно выбирать» (31). Однако, веруя в то, что наука, а точнее, технонаука, спасет нас от изменения климата, Латур выражает суть эпохи модерна! Таким образом, он принимает позицию, идеально сформулированную фон Нейманом в 1955 году:
«Запрет технологий <…> противоречит всему духу индустриальной эпохи. <…> Трудно представить себе, чтобы наша цивилизация пошла на это. Только в том случае, если бы та катастрофа, которую мы боимся, уже произошла, только если бы человечество уже полностью разочаровалось в технологической цивилизации, можно было бы сделать такой шаг. Но даже недавние войны не заставили человечество разочароваться в ней, что доказывает та феноменальная жизнестойкость, с которой индустриальный образ жизни восстановился даже — особенно — в наиболее пострадавших регионах» (32).
Пример Фукусимы полностью подтверждает это. Похоже, что сомнения в технологиях — запретная тема, перед которой пасуют всемодернисты, включая Латура. В этом смысле «Это развитие, тупица!» — абсолютно модернистская работа. Модернисты — это те, кто верят в нерушимую святость технологического развития. Быть модернистом означает верить в технологическое преодоление невозможного, как утверждает Латур: модернисты «хотят невозможного, и они правы». Но, добавляет он, мы должны изменить это невозможное (33).
Невозможное, от которого нужно отказаться, — это невозможное освобождение от природы; оно не должно требовать от нас каких-либо усилий, так как этого освобождения (разъединения), по мнению Латура, на самом деле никогда не существовало! Как мы увидели, Латур утверждает, что люди эпохи модерна, сами не осознавая этого, занимались гибридизацией людей и нелюдей. Иначе говоря, освобождение по отношению к природе для Латура поистине невозможно. Невозможность связана с его идеей «предела пределов»: он просто хочет, чтобы ограничений больше не было (p. 12). Но не завершается ли проект модерна этой идеей? Как писал Бэкон:
«Целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех вещей; и расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным…» (34)
Вопреки утверждениям Латура, для мыслителей науки эпохи модерна проблема заключается не в освобождении от природы (что уже теоретически достигается превращением природы в математический объект), а в технологической реализации всего возможного в будущем. Из этого следует, что Латур, как правильный модернист, не оторван от мира. Именно эта соединенность и приводит его к заявлению, которым завершается статья: «Мы хотим развиваться, а не разрывать связи» (35). Здесь мы сталкиваемся с инфернальной парой альтернатив: с одной стороны, предложение бесконечно развивающейся экологии Латура и его товарищей пост-энвайронменталистов; с другой — та форма разрыва, которая заключалась бы в отказе от всех технологий.
Немного неожиданно, что мы ограничили себя этими альтернативами, так как Латур кажется проницательным модернистом, прекрасно понимающим, что прогресс неотделим от «нежелательных последствий», — но о каких последствиях идет речь? Что значит для Латура заботиться о наших творениях и вызванных ими последствиях? Описывая принцип предосторожности, введенный в действующую Конституцию Франции, Латур стремится показать, что противники и сторонники этого принципа на самом деле согласны друг с другом.
Первая группа его критикует, потому что анализ рисков и их предвосхищение не позволят человеку внедрять инновации, а вторая группа, которую Латур обозначает как «модернистов-экологов», выступают за закон, основанный на идее: «никаких действий, никаких новых технологий, никакого вмешательства, если только не будет доказано точно, что никакого вреда нанесено не будет» (36).
Латур одновременно отказывается поддаваться парализующим предчувствиям и «отмежевываться», но требует — в конце концов? — следующего[un suivisme]. Здесь появляется метафора любви к нашим монстрам, которых Нордхаус, Шелленбергер и Латур в равной степени обожают. Любить наши технологические творения означает следить за их проявлениями, не позволять им развиваться в изоляции, не верить, что у них не будет никаких последствий, ибо наши творения привязаны к нам, ко всему, к миру благодаря обобщенной взаимосвязи, связывающей каждую часть мира со всеми другими частями.
Конечно, вполне очевидно, что мы не позволяем АЭС работать самостоятельно, точно так же, как мы устанавливаем автоматические системы сигнализации, способные реагировать на «непредвиденные» аварии. Но Латур, кажется, забыл, что на карту поставлено именно создание систем ограничений, способных включать в себя неопределенность! Утверждение, что мы не знаем, какие последствия может повлечь за собой внедрение новой технологии, абсолютно верно, но именно в нем и заключаются основные принципы наших отношений с технологиями: она должна порождать то, что Ханс Йонас назвал беспокойством, а не страх, как некоторые ошибочно полагают (Йонас использует слово Sorge, «забота», «беспокойство»).
Но затруднение заключается именно в том, чтобы заранее продумать, каким образом конкретная неопределенность может привести нас к стагнации определенных технологий. Отказ от такого «заблаговременного» предвидения равнозначен отказу от принципа предосторожности, что приводит к движению вперед без направления; мышление настоящего модерниста. Если и есть за что критиковать принцип предосторожности, так это не за то, что он не дает развернуться прогрессу, а за то, что он иногда дает ошибочную уверенность в том, что риски просчитаны (например, риски рисков).
Такой предосторожности мы должны противопоставить, следуя работе Гюнтера Андерса и Жан-Пьера Дюпюи, предотвращение, принимающее свою неспособность просчитать риски (37). Это означает, что проблема на самом деле заключается не в том, чтобы понять, что будут нежелательные последствия (это очевидно), а в том, чтобы понять, что некоторые из этих нежелательных последствий нельзя желать ни в коем случае.
Но теория Латура не позволяет нам не желать. Это одна из общих черт экологического конструктивизма Латура и пост-энвайронментализма Нордхауса и Шелленбергера, ведь они утверждают, что «каждый новый акт спасения приведет к новым непредвиденным последствиям, как положительным, так и отрицательным, которые, в свою очередь, потребуют новых актов спасения» (p. 110-111): Прометей, чье имя означает «предусмотрительный», сливается со своим братом Эпиметеем, «сначала делающим, а потом думающим».
В книге «Техника и время, 1: Ошибка Эпиметея» (Technics and Time 1: The Fault of Epimetheus) Бернард Штиглер проводит различие между Эпиметеем, который, не обладает даром провидения и не помогает человеку справиться с его нуждой [démuni], и Прометеем, который, благодаря своей способности, заботится о человеке, компенсируя вину Эпиметея даром техники (38).
В ситуации опасного слияния Прометея и Эпиметея дело уже не только в заботе [soin] и предвидении: отныне Прометей сможет использовать свой (ядерный) огонь и свое оружие, но будет делать это не испытывая необходимости думать наперед. Эпипрометей — это новое чудовище, должны ли мы его полюбить? Должны ли мы быть связаны с ним? Давайте немного подумаем, прежде чем ответить; потом, несомненно, будет слишком поздно.
Заставляя доктора Франкенштейна задуматься
Давайте притормозим; и осторожно вернемся к анализу книги Мэри Шелли, предложенному Латуром. Совершенно верно, что существо Виктора Франкенштейна страдает из-за недостатка любви от своего создателя. Когда они встречаются в Альпах, Виктор Франкенштейн использует всевозможные оскорбления для унижения своего творения: «дьявол», «гнусная тварь», «ненавистное чудовище» и т.д. (39)
А бедное создание говорит ему об одиночестве, упрекает своего творца в том, что он не «выполнил своего долга» перед ним (с. 71). Таким образом, мы признаем правоту Латура в том смысле, что в своем отношении Виктора Франкенштейн лишен самой элементарной заботы, ему не хватает ответственности. Это очень хорошо, но что заставило Виктора Франкенштейна стать таким?

Вопреки тому, в чем убеждает нас Латур, доктор вовсе не является модернистом: в ранней молодости на него оказала влияние «натурфилософия» Корнелия Агриппы и Парацельса, иными словами, концепции науки, легитимирующие магию и алхимию, поиски философского камня и эликсира вечной жизни. Именно в этом контексте и формируется главное желание Виктора Франкенштейна: произвести жизнь, — постичь, «как самому оживлять безжизненную материю» (с. 40), как «избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для всего, кроме насильственной смерти» (с. 33).
Но во время своих исследований Франкенштейн столкнулся с тем, что современная ему наука одержала верх над предшествующими ей концепциями. Об этом говорит профессор Вальдман в романе Мэри Шелли: если раньше ученые «обещали невозможное», то теперь «они стали мелочиться»; наука отвергла поиски философского камня и эликсира жизни, вместо этого ученые теперь «возятся в грязи» и «корпят под микроскопом» (с. 37). Но и они творят чудеса, занимаясь этим:
Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса; они узнали, как обращается в нашем теле кровь и из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть; они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру. (с. 38)
Очевидно, научные методы скромны в сравнении с алхимическими, но результаты оказываются гораздо более удивительными. Наука модерна не перестает гнаться за магией и ее фантазиями, но делает это иначе. И Виктор Франкенштейн находится именно на месте чудовищного стыка модерна с непреходящим магическим мышлением.
А что насчет нас самих, как далеко мы в действительности продвинулись в поисках эликсира жизни?.. В известном отрывке из «Рассуждений о методе» Декарт утверждал, что наука, в частности, физика, позволит нам достичь «первого блага», то есть «сохранения здоровья» (40); cегодня мы в большей степени обеспокоены не здоровьем (эта концепция предполагает, что существует состояние, которое должно быть достигнуто), а фитнесом, который не знает пределов совершенству.
Как пишет Зигмунт Бауман: «Каким бы хорошим ни было ваше тело, вы могли бы сделать его еще лучше» (41). Конечно, не следует смешивать воедино эликсир жизни, сохранение здоровья и фитнес; так же, как не следует путать всемогущество Бога с суверенитетом государства; секуляризация (религии и магического мышления) никогда не бывает простым воспроизведением идентичности. Но так же, как в области политики некоторые государства мнят себя всемогущими из-за обладания ядерным оружием, в сфере науки определенный образ вечной жизни нашел новое воплощение в желании управлять и обладать, сформулированном Декартом в середине XVII в.
Эта гипотеза позволит нам понять, что в основании веры во всемогущую природу развития и технологий лежит вера в современную науку, подкрепленная домодернистской фантазией (42). Разве не эта вера и фантазия были увековечены конструктивистами и пост-энвайронменталистами? Если они модернисты, то, в конце концов, не только потому, что хотят больше технологий (это всего лишь симптом), но и потому, что они не ставят под сомнение тот способ, каким модерн метаболизировал интегрированную, перепрофилированную и модифицированную домодерновую науку и ее либидинальный вклад в технологии.
Это и есть то самое убеждение, оживляющее мертвую материю геоинженерии. Это проект, одобренный Полом Крутценом, который заключается в управлении климатическими изменениями посредством технологической «оптимизации» климата. И именно с этим убеждением сегодня должна покончить экологическая теория.
Поэтому предложение Латура полюбить всех своих монстров становится очень проблематичным. На самом деле Виктор Франкенштейн похож на нашего чудовищного Эпипрометея своим желанием сначала сделать, а потом думать. Мы, безусловно, понимаем, что следовало бы иметь ввиду такое положение дел, когда нечто, появляясь на свет, требует для себя нашей заботы. Здесь стоит вспомнить человеческих клонов — фантастический сюжет, который с каждым днем становится все менее и менее абсурдным. Если они появятся, то о них необходимо будет заботиться независимо от того, что гласит закон.
Однако позиция Нордхауса, Шелленбергера и Латура подразумевает невозможность отказа от реализации некоторых технологий. Выше мы говорили об их фундаментальном запрете на сомнение в отношении технологического развития. Поставить под сомнение [remettre en cause] означает, в теории, вернуться к причине[ramener à sa cause], к ее анализу и тем самым найти выход из «прагматической экологии», предложенной Эмили Хаш, которая выступает в пользу «прагматической философии», понимаемой как «искусство последствий, вызванных его же предложениями» (43).
Экологическая теория, которую мы стремимся предложить, антипрагматична по причинам, которые очень… прагматичны: интересоваться последствиями значит слишком поздно реагировать; наша теория рассматривает именно причины, о которых мы должны задумываться, прежде чем что-либо создавать. Только возвращение к причинам, целям, принципам, к тому, чего мы желаем, может позволить нам провести различие между технологиями, которые мы хотим и не хотим произвести. Это различие должно быть проведено до того, как они появятся, а не после.
Разделение технологий: космотехнологии и выбор механизмов
Чтобы провести это различие, нам нужно в первую очередь начать думать о технологиях как таковых, иными словами, перестать путать — как это делает Латур — обучение детей с созданием технологий; любовь, которой мы одариваем первых, и привязанность, которую мы иногда испытываем в отношении вторых. В конце концов робот — это не то же самое, что ребенок!
Именно это различие позволяет нам унять свою страсть к технологиям, что невозможно для Латура, так как принцип предосторожности — это «не принцип сдержанности, а изменение способа рассмотрения любого действия», то есть основательное изменение отношения к связи между наукой и политикой: благодаря этому принципу «непредвиденные последствия соединяются со своими инициаторами и попадают под непрестанное наблюдение» (44).
Проблема пост-энвайронменталиста в том, что он всегда опаздывает на вечеринку: после того, как новые технологии были выведены на рынок, пост-энвайронменталист просит нас полюбить их, внимательно и неустанно наблюдать за ними. Экологический конструктивизм — это своего рода карикатурный прагматизм: причины (принципы, онтологические основания технологий) не имеют для него никакого значения, акцент смещается на последствия. Вот почему экологический конструктивист говорит «да» любой технологии: ГМО, гидравлическому разрыву пласта ◻️, ядерной энергетике и климатической инженерии.
Пост-энвайронментализм, как и любой экологический конструктивизм, представляет собой схему мышления, затуманивающую экологическую теорию и сводящую все к двум вариантам: либо ненависть к технологии, либо любовь к ней. Либо отвергаешь абсолютно все технологии, либо принимаешь каждую. Либо отказываешься от всего технологического развития, либо считаешь «глупцами» тех, кто его отвергает.
Наша проблема не в том, чтобы найти какой-то баланс между этими двумя крайностями, а, наоборот, в том, чтобы установить политическую позицию, целью которой было бы проведение различий между желаемым и нежеланным. Такова первая задача «экологии разделения»: научиться различать, что вредно, а что нет. Но это подразумевает умение работать с причинами до проявления их последствий. Каковы критерии, которые могут позволить нам оценить и отсортировать нужные технологии? В «Приручении бытия» (The Domestication of Being) Петер Слотердайк пытается провести различие между:
1. С одной стороны, «аллотехнологиями» ◻️, которые наносят вред Земле и приводят к «уничтожению первичных материалов». Аллотехнологии применяются как бы извне, они используются субъектом (подчиняющим), проявляющим власть по отношению к объекту (подчиненному) (45). Простая попытка «контролировать» извне якобы «предсказуемую» природу, делает экосистемы уязвимыми и способствует «эрозии [их] жизнестойкости» (46);
2. И, с другой стороны, «гомеотехнологиями»: они разработаны на основе информированности, «комплексного мышления» и «экологии». Эти технологии предполагают стратегию «сотрудничества», «диалога» с природой. Гомеотехнологии, пишет Слотердайк, «не могут при всем желании полностью отличаться от того, чем “сами вещи” являются для себя или могут стать для себя» (47).
Андре Горц, один из самых важных экологических мыслителей Франции, проводит это различие в конце одной из своих работ под названием «Нематериальное» (L’immatériel) (48) . Основываясь на работах Ивана Иллича, Горц различает «закрытые технологии» [technologies verrou], приводящие к господству над природой, «лишению людей их окружающей среды», и «открытые технологии», которые «благоприятствуют общению, кооперации, взаимодействию — например, телефон, или в настоящее время Интернет и программное обеспечение с открытым исходным кодом» (49).
В конечном счете, Слотердайк и Горц противопоставляют совместные технологии и замкнутые технологии. Последние приводят к тому, что Иллич называл «радикальной монополией», мешающей «расширению прав и возможностей [pouvoir-faire] человека» (50). Эта радикальная монополия сегодня делает возможной демократию экономики, иными словами, процветание неограниченного капитализма.
Тем не менее, в концепции экологии разделения имеется загвоздка: как отличить хорошие технологии от плохих? Ведь их применение может быть разнообразным и непредсказуемым. Не ведет ли критика конца Великого Раздела к новому эссенциализму? На самом деле, необходимо рассматривать сразу и технологии, и возможный мир, к чьему созданию (или разрушению) они могут привести: каждая технология — это космическая технология.
Если, например, ядерная технология является «аллотехнологией», «закрытой технологией», то это потому, что для своего существования она требует секретности (технологии маршрутизации ядерных отходов), требует наличия армии для ее защиты, требует одновременно экономического и полицейского механизма. Дело не в том, что у АЭС имеется собственная сущность, а в том, что есть механизмы, позволяющие этой технологии функционировать. Выбранный механизм не вписан в сущность технологии, а формирует дополнение к ней, без которого ее использование было бы невозможным (например, публичное информирование потенциальных террористов или антиядерных активистов о маршрутах движения поездов, перевозящих ядерные отходы…).
В этом смысле технология и выбранные ею механизмы создают определенный тип мира (общество, индивидуальное отношение к энергии и ее потреблению и т. д.). Верить в то, что ядерной энергетике можно найти разное применение, например, полагать, что возможно ее использование без армии, значит верить в опасно идеалистическую фикцию: конструктивистскую фантастику миров без ограничений, которые каждый может создать по своему усмотрению.
В итоге, когда мы используем космотехнологическую оптику, мы можем (1) разграничивать желаемые и нежелаемые ценности и миры; (2) распознавать, акцентируя внимание на причинах, какие механизмы востребованы такой-то и такой-то технологией, и какой мирнеразрывно связан с этими механизмами; и (3) принимать политические решения, которые способствуют развитию совместныхтехнологий — и опять же разделение (членение) определяет отношения (взаимодействия).
Неопределенные коллективы
Эта неспособность выбрать нужные технологии — не что иное, как симптом конструктивизма: его однобокое стремление к ассоциации и соединенности лишь показывает, что он испытывает проблемы с доступом к измерению разделения, разъединения и противопоставления. Вспомните, что для Латура люди образуют не общество субъектов, отдельных от мира объектов, а постоянно растущий коллектив людей, осознающих существование не-людей, стремящихся найти свое место в этом общем коллективе. Коллектив представляет собой совокупность процедур, функция которых заключается в «собирании ассоциаций людей и нелюдей» (51).
Это собирание всегда можно поставить под сомнение, принять или отказаться от новых участников, предложить свою «кандидатуру на совместное существование» после «консультаций» насчет этих новых «пропозиций» (с. 124). Собирание не имеет конца, его пределы носят временный характер. Можно добавить, что это собирание не является следствием суверенного решения, принятого человеком: для Латура нет ничего более ошибочного, чем «концепция человеческого актора, командующего всеми остальными» (52).
Человеческие творцы и конструкторы должны признать, что они «делят свою агентность с морем акторов, над которым у них нет никакой власти»: вместо фантастического человеческого господства царит «неуверенность» (с. 32). Эта неуверенность руководит всем построением, всем созданием коллектива, зная, что целью «политического процесса» является стремление к «общему миру»: «единый мир — это мир будущего, а не прошлого». Более того, все мы находимся в том, что Уильям Джеймс называет «плюриверсумом» (с. 37–39). Цель этого общего мира состоит в том, чтобы гарантировать, что «люди и не-люди участвуют в истории, которая должна сделать невозможным их разделение» (с. 39).

Необходимость думать о не-людях — это одно. Невозможность всякого разделение — это другое. Предлагая общее, монолитное объединение в качестве политической цели, Латур в конечном счете вместо сообщества различных акторов пытается создатьЕдиное. Хотя единый мир — это «мир будущего», такая идея обязывает нас пересмотреть утверждение, сделанное Латуром в «Политиках природы»: «Коллектив не существует в “единственном числе”, как мы знаем, коллективов может быть “сколько угодно, только не два”» (с. 114).
Из этого можно извлечь следующий урок: (онтологический и политический) отказ от двух неизбежно ведет к Единому. Конечно, создание Единого отложено, так как коллектив Латура нестабилен, всегда «на пути расширения», постоянно меняется и всегда способен признать существование новых участников. Но пока разделение на двух не имеет места, все смешивается и становится нечетким: латурианский коллектив размещает всех существ на одной и той же плоскости — прионов, приматов и людей (точно так же, как технологическое производство помещается на одну плоскость с человеческой репродукцией).
Некоторым очень нравится эта идея, они превозносят объектно-ориентированную онтологию с ее бесконечными списками акторов (53). Но проблема заключается в том, что условия такого коллектива не позволяют проводить политическое различение между тем, что важно и тем, что нет, ставя исчезновение прионов на один уровень с исчезновением высших приматов. Ален Кайе пишет в своей статье о Латуре:
Трудно понять, как будут жить люди, или, иначе говоря, как человек-субъект будет способен выжить в долгосрочной перспективе, если его помещают на одну плоскость с любым электроном, амебой, вирусом или разводным ключом. Единственную мораль, которую можно вынести из латурианской (де)конструкции — это постоянная открытость к бесконечности мыслимого и возможного.
Другими словами, все, что можно сделать с технической точки зрения, должно быть сделано. Не может и не должно быть никаких препятствий для бесконечной экспансии биотехнологий… Именно против отсутствия ограничений, этого высокомерного отношения, борются экологи… Нет ли чего-то парадоксального в призыве к политической экологии, которая, в конце концов, стремится к целям, противоположным тем, за которые выступают настоящие экологи? (54)
«Ничто в концепции Латура», — добавляет Кайе, — «не позволяет противостоять, например, ГМО, гегемонии биотехнологий или неограниченной модификации генома», но, наоборот, оказывается, что «все дозволено» (с. 113). Причина очень проста: политика для Латура никогда не может содержать в себе конфликт (ведь он подразумевает под собой наличие двух сторон!), но всегда означает процесс и производство — способ, которым множественное сходится в Едином. Его проблема заключается в том, что он знает, «как привить наукам демократию» (это подзаголовок «Политик природы»), а не как привнести демократию в науки (55)◻️.
Речь идет о строительстве, строительстве хорошего, лучшего — «как лучше построить [мир]»? (56)— но только не о том, как можно противостоять неудачным результатам производства. Для этого необходимо противостоять императиву абсолютной реализации, этому бэконовскому суперэго, которое заключается в неизбежной технологической реализации всего, что можно реализовать. Безграничные коллективы Латура — последствия этого императива: нет ничего определенного, кроме уверенности в неограниченном производстве.
Таким образом, можно сформулировать проблему: неопределенность, которая, возможно, адекватно описывает онтологическое состояние материи в ее квантовом состоянии, используется в широком понимании для оправдания невозможности установить контроль за тем, как человек связывает себя с не-человеческим миром. Но где неопределенность в случае с Фукусимой?
В чрезвычайной агентностипланктона и креветок? В какой-то мистической и невероятной реакции с их стороны на столь же загадочные компоненты реакторов? Нет. Завод, установленный на сейсмическом разломе; документы инспекции, сфальсифицированные Tepco; отсутствие уважения к ВОЗ и другим глобальным органам, регулирующим ядерную и экологическую безопасность (57); разрушение утесов, образовавших естественный защитный барьер (58) и т. д.
Авария на Фукусиме не была случайностью или непреднамеренным следствием неопределенности и отсутствия онтологического господства человека; Фукусима — это запрограммированная авария. Мы знаем, мы могли бы знать о ней. Говорить в этом случае о неопределенности или «неожиданных» последствиях — это либо проявлять невежество, либо оправдывать эти катастрофы и их причины. За неопределенными коллективами Латура скрывается уверенность в том, что плюриверсум стремится к Единому; против этого экология разделения должна восстановить силы (puissance) двух, разделения, без которого всякое объединение становится непонятным, противостояния, без которого производство и развитие становятся бессмысленными (59).
Природа как медиация
Если все неопределенно, если все бесконечно формируется и перестраивается, если все является процессом, все конструируется, то в конце концов это согласуется с выводом конструктивистов и пост-энвайронменталистов: нет никакой природы. Для Латура и его друзей, а также для Жижека и Крутцена конец природы — это отличная новость! «Слава Богу, природа умрет. Да, великий Пан умер! После смерти Бога и человека природе тоже пора на покой» (60).
Природа мертва как понятие, которое дает «возможность раз и навсегда собрать воедино действующие лица и ценности, чтобы поместить их в рамки строгой иерархии» (с. 35), природа как порядок, закон, право, «жесткая причинность», «незыблемые законы» (с. 37). Каковы преимущества и недостатки такого положения? Это то, что мы попытаемся понять в заключительной части данной главы.
Цель экологии разделения не состоит в том, чтобы восстановить природу в качестве порядка, субстанции или трансцендентальной схемы, как основы для идентификации и упорядочения различных культур. Каждая экологическая теория, достойная называться таковой, должна была включить в себя «экологию хаоса» Дональда Уорстера, появившуюся в 1970-х годах на обломках экологий, основанных на идее сбалансированной природы (61).
Тем не менее, мысль о том, что все является процессом, также послужила дополнением к онтологическим требованиям промышленности в условиях капитализма и ее склонности к неограниченному развитию. Безоговорочная приверженность онтологическому тезису «все есть процесс» необратимо приводит к слепому политическому наваждению, о котором говорилось выше, т. е. к состоянию, когда мы говорим «да» всем последним промышленным инновациям. Иными словами, разве не страх перед тем, что способно наложить ограничения на радости неопределенных коллективов, заставил пост-энвайронменталистов и конструктивистов, да и вообще большую часть современной мысли, объявить природу мертвой?
Безусловно, экологическая теория и практика с успехом заменили термин «природа» такими понятиями как «экосистема» и «экосфера», и настояли на том, что, как говорил Барри Коммонер в 1971 году, «все связано со всем» (62). Проблема в том, как быстро эта теория, корнями уходящая в кибернетику, была денатурализована: идея взаимосвязей все меньше и меньше используется для описания внутренних отношений экосистем, и все больше и больше, чтобы описать то, с чем вступают в контакт люди.
Смешавшись с искусственными экосистемами, естественные экосистемы постепенно стали элементами, интегрированными в антропогенные суперэкосистемы. Главный принцип экологической теории стал принципом антропогенных взаимосвязей, а теперь, в эпоху антропоцена, принципом геоантропогенных взаимосвязей.
Парадокс заключается в следующем: чем больше в теории мы утверждаем, что борьба с антропоцентризмом заключается в признании неопределенности наших проектов и агентности нелюдей, тем быстрее, на практике, то есть в промышленности, мы приближаем так называемый «конец Великих Разделов», что ведет к тотальной колонизации мира человеком. Иными словами, чем больше пост-энвайронменталисты утверждают, что не существует ни природы, ни ограничений, ни разделения между человеком и окружающей его средой, тем меньше остается агентности у не-людей…
Что же тогда предлагает экология разделения в отношении природы?
- Прежде всего, мы напоминаем, что каждое отношение имеет свои материальные, а не моральные или религиозные ограничения. Отношения, поддерживаемые тем или иным источником энергии или воды, предусматривают возможность истощения этого источника. В конце концов, это то, что экологический дискурс утверждал с того самого момента, когда он начал формироваться! Ограниченность — это имманентный и материальный аспект каждого отношения. Кто-то мог бы сказать: да это же очевидно! Но пост-энвайронменталистский конструктивизм заглушил эту очевидную истину, критикуя всех тех, кто, по его мнению, «боится согрешить», когда говорит о необходимости соблюдать ограничения… Думать о связях материальных ограничений, взаимоотношений и технологий значит мыслить через призму космотехнологий; измерять риски вынужденного выбора механизмов, не способствующих развитию демократии, заботиться об окружающей среде и ее жизнестойкости; встраивать технологии в контекст желаемого мира и тех оппозиций, которые будет провоцировать это желание. Политическая власть двух неоспорима.
- Но как мы можем начать рассматривать отношения и их пределы, взаимосвязи и то, что может их разрушить, в мире, все больше и больше представляющим себя имманентным, непрерывным, лишенным чего-либо внешнего? Вместо того, чтобы рассматривать природу как постоянную субстанцию или, наоборот, как вечный процесс трансформации, экология разделения мыслит природу как медиацию, как посредничество, позволяющее нам отделить себя, пусть даже временно, от того, что мы создаем. Это было бы инверсией парадигмы, понимающей природу как нечто мгновенное (непрерывное, обволакивающее), именно там, где предполагается, что технологии (информационные, коммуникационные), напротив, позволят создание медиаций между живыми существами. Но в эпоху обобщающих связей, Интернета Вещей и машинной коммуникации верно и обратное: геоантропогенные связи создают большую, бесшовную ткань «иммедиаций». Что, если природа теперь может оказаться тем, что позволит нам восстановить разрыв в глобальной технологической системе? Природу скорее следует понимать локально, нежели утверждать тотальность ее существования, понимать ее как средство, позволяющее создать временную процедуру посредничества вроде некоего обходного пути, как пространственного, так и временнóго, позволяющего нам проанализировать отношения, производимые нами, а также материальные границы этих отношений.
Взяв данную гипотезу на вооружение, давайте перечитаем знаменитое XXIII письмо из «Юлии, или Новой Элоизы» Жан-Жака Руссо: в конце концов, тот сверхъестественный аспект природы, который Сен-Пре ощущает в горах, — это всего лишь способ рассматривать природу не как субстанцию или трансцендентальный принцип, но как медиацию, преходящее внешнее, обходной путь, позволяющий ему заниматься радикальной критикой общества и призывать к его политической трансформации.
* * * * *
Примечания
1. Одно из основных этимологических значений слова resilire — «”отступать, отдалять себя от чего-либо” или же “отпрянуть с отвращением”»: «мы осознаем, что популистское понимание жизнестойкости как “отскока” включает в себя отвращение к текущему положению дел, необходимое самоустранение от норматива». LeMenager S., Foote S. Editors’ Column // Resilience: A Journal of the Environmental Humanities. 2014. Vol. 1. № 1. URL: http://www.jstor.org/stable/10.5250/resilience.1.1… (дата обращения: 22.04.2021). Без дистанции невозможна жизнестойкость в привычном понимании слова, то есть адаптация к непредвиденным обстоятельствам.
2. См.: Hamilton C., Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering. New Haven: Yale University Press, 2013.
3. См. мою статью: Neyrat F. Une hégémonie d’extrême-droite: Etude sur le syndrome identitaire français // Lignes. 2014. Vol. 45. № 3.
4. Подробнее об этом см. мои книги: Neyrat F. Jean-Luc Nancy et le communisme existentiel. Paris: Lignes, 2013; Idem. Atopies: Manifeste pour la philosophie. Caen: Éditions Nous, 2014.
5. Žižek S. In Defense of Lost Causes. London: Verso, 2008. P. 433, 442. В книге «Глядя вкось» Жижек утверждает, что фантазия «конструирует» желание, потому что последнее «не дано заранее» (6). Это стандартная постструктуралистская позиция: нет естественного желания, потому что природы нет вообще. Именно это приводит Жижека к конструктивизму означающего (или конструктивизму символической операции). См.: Žižek S. Looking Awry. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
6. По поводу «экологии хаоса» и работ Уильяма Дрюри и Яна Нисбета см.: Worster D. The Wealth of Nature: Environmental History and the Ecological Imagination. Oxford: Oxford University Press, 1993. P. 162–167.
7. Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полонской. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. С. 68.
8. Deléage J.-P. Une histoire de l’écologie. Paris: La Découverte, 1991. P. 79.
9. Merchant C. The Death of Nature. San Francisco: Harper & Row, 1980.
10. Crutzen P., Stoermer E. The ‘Anthropocene // Global Change Newsletter. 2000. № 41. P. 18.
11. См. мою статью: Neyrat F. Critique du géo-constructivisme. Anthropocène et géo-ingénierie // Multitudes. 2014. Vol. 56. № 1.
12. По мнению Пауля Крутцена и Кристиана Швегерля, «долго существовавшие границы между природой и культурой сегодня разрушаются. Больше нет нас, противопоставленных “природе”. Вместо этого существуем мы, кто решает, что есть природа и какой он должна стать». (Crutzen P., Shwagerl C. Living in the Anthropocene: Toward a New Global Ethos // Yale Environment 360. 2011.) Здесь мы видим, что конец великого раздела выгоден «нам», человеческим существам. Неравномерное распределение последствий этого процесса является одним из слепых пятен, типичных для дискурса экологического конструктивизма.
13. Love Your Monsters: Postenvironmentalism and the Anthropocene / ed. M. Shellenberger, T. Nordhaus. Oakland: Breakthrough Institute, 2011.
14. Этот тезис поддержали Кристоф Боннюлем и Жан-Батист Фрессо. (Bonneuil C., Fressoz J.-B. L’événement Anthropocène. Paris: Seuil, 2013. Гипотеза Homo Sapiens (рассматривающая появление человека разумного 200 000 лет как следствие развития охоты и освоения огня), «ранняя антропогенная гипотеза» палеоклиматолога Уильяма Руддимана (который настаивает на ключевой роли появившегося 7000 лет назад сельского хозяйства) и гипотеза акселерации (в которой все начинается после Второй мировой войны), — все они сводят на нет потрясения, вызванные промышленной революцией (которую Крутцен сводит ко временнóму и экономическому проявлениям антропоцена), и тем самым укрепляют энтузиазм экологических конструктивистов в отношении технологического развития.
15. Nordhaus T., Shellenberger M. The Death of Environmentalism. Oakland: Breakthrough Institute, 2004. P. 8.
16. Latour B. Love your Monsters: Why we must Care for our Technologies as we do our Children // in Love Your Monsters: Postenvironmentalism and the Anthropocene / ed. T. Nordhaus, M. Shellenberger. Oakland: Breakthrough Institute, 2011.
17. Ср.: Latour B. Aramis, or The Love of Technology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. P. 83, 227, 248–249, 280.
18. Latour B. We Have Never Been Modern. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.
19. Latour B. Love your Monsters. P. 339.
20. Ср.: Serres M. The Natural Contract. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995. P. 33; Beck U. Risk Society. London: Sage, 1992. P. 80–82.
21. Nordhaus T., Shellenberger M. The Death of Environmentalism. P. 12.
22. Latour B. Love your Monsters. P. 308.
23. Ср.: Crutzen P., Schwägerl C. Living in the Anthropocene.
24. Немецкая фраза в оригинале звучит так: «der endgültig entfesselte Prometheus»; Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt: Suhrkamp, 2003. P. 7.
25. Latour B. Love your Monsters. P. 320–321.
26. Latour B ‘It’s Development, Stupid!’ or: How to Modernize Modernization. P. 10.
27. Décroissance (фр.) — снижение роста, антирост; здесь также употребляется в значении размежевания и запрета роста.
28. Латур Б. Политики природы / пер. Е. Блинова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С. 35..
29. Latour B It’s Development. P. 2.
30. Latour B. Love your Monsters. P. 3.
31. Latour B. Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes. Paris: La Découverte, 2012. P. 20.
32. Neumann von J. Can we survive technology? // The Fabulous Future. America in 1980. New York: E. P. Dutton & Co., 1955. P. 44.
33. Latour B. It’s Development. P. 12.
34. Бэкон Ф. Новая Атлантида. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 33.
35. Latour B. It’s Development. P. 13.
36. Latour B. Love your Monsters. P. 380–381.
37. См.: Anders G. Le temps de la fin. Цитируется в: Danowski D. Viveiros de Castro E. L’arrêt de monde // De l’univers clos au monde infini. Paris: Éditions Dehors, 2014. P. 298; Dupuy J.-P. Pour un catastrophisme éclairé: Quand l’impossible est certain. Paris: Seuil, 2002.
38. Stiegler B. La technique et le temps 1: La faute d’Epiméthée. Paris: Galilée, 1994. P. 191–210.
39. Шелли М. Франкенштейн. Последний человек. М.: Ладомир, Наука. 2010. С. 70.
40. Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках / Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989. Сю 286. См. также: Descartes R. The Conservation of Health Has Always Been the Principal End of My Studies // The Philosophical Writings of Descartes Vol. III. Cambridge: Cambridge University Press. P. 275.
41. Bauman Z. Liquid Life. Cambridge: Polity, 2005. P. 93.
42. У меня ни в коем случае нет намерения оспаривать «легитимность эпохи модерна» (Блюменберг), скорее хотелось бы показать, как она формирует себя, заимствуя некоторые черты предыдущей эпохи, которые можно было бы назвать бессознательным модерна, его активной репрессированной частью. Если говорить более точно, то речь не идет ни об абсолютном разрыве, ни о том, что он произошел, ни о безупречной преемственности, но о разрыве в методе и непрерывности бессознательного желания. Только экоанализ позволит нам избежать предсказуемой катастрофы, вызванной климатической инженерией, которая усиливает это бессознательное желание. Он позволяет нам уяснить, что опасна не климатическая инженерия, как таковая, а технология, руководимая этой домодернистской фантазией.
43. Hache E. Ce à quoi nous tenons: Propositions pour une écologie pragmatique. Paris: La Découverte, 2011. P. 12. См. также: «Если существует разрыв между моральными принципами и миром, с которым мы экспериментируем, то морали не достает именно нашим принципам, а не миру в целом» (Ibid. P. 55). Я оспариваю это утверждение на основе того, что преодоление этого разрыва создаст новые проблемы, а не решит старые.
44. Latour B. Love your Monsters. P. 380–384.
45. Sloterdijk P. La domestication de l’être. Paris: Mille et une nuits, 2000. P. 91.
46. Folke C., Carpenter S., Elmqvist T., Gunderson L., Holling C. S., Walker B. Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations // AMBIO: A Journal of the Human Environment. 2002. Vol. 31. № 5. P. 438–439.
47. Sloterdijk P. La domestication de l’être. P. 91.
48. Горц А. Нематериальное. Знание, творчество и капитал. М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. С. 208.
49. Gorz A. Ecologica. Paris: Galilée, 2008. P. 16.
50. «Радикальная монополия» появляется, когда «власть инструмента делает обязательным его использование и тем самым ограничиваетавтономию человека. При этом мы имеем особый тип общественного контроля, усиленный обязательным потреблением массового производства, которое могут обеспечить только основные отрасли». Illich I. La convivialité. Paris: Seuil, Points-Essais, 2003. P. 81–82.
51. Латур Б. Политики природы. C. 268.
52. Latour B. The Promises of Constructivism // Chasing Technoscience: Matrix for Materiality / ed. D. Ihde, E. Selinger. Bloomington: IndianaUniversity Press, 2003. P. 31.
53. Например: «люди, собаки, дубы, табак стоят на одном месте со стеклянными бутылками, вилками, ветряными мельницами, кометами, кубиками льда, магнитами и атомами». Harman G. Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects. Chicago: Carus Publishing Co., 2002. P. 2.
54. Caillé A. Revue du MAUSS 17. Paris: La Découverte, 2001. 111.
55. Скорее, это было бы целью Изабель Стенгерс.
56. Latour B. The Promises of Constructivism. P. 42.
57. «Сегодняшняя катастрофа стала результатом человеческой невнимательности». Из интервью с Исаку Сато, предыдущим главным управляющим Фукусимы. (Le Monde. 2011. March 28.)
58. «Tepco возвела целый утес для последующего строительства электростанции». (Le Monde. 2011. July 12.)
59. (1) «Рассмотрение способов существования» (англ. An Enquiry into Modes of Existence) ничего не меняет в отношении анализа, проведенного здесь: Латур пытается обновить экологический конструктивизм (нет разницы между природой и обществом и т. д.) и берется за «региональную ОНТОЛОГИЮ» (31, French edition), устанавливая «способы существования» (вымысел, техника, право, привычка и т. д., всего их четырнадцать) и выступая за «онтологический плюрализм» (150). Этот неопределенный плюрализм (всегда готовый себя отрицать и совершенствовать, работать без конца и растворять в себе любые критические замечания) не оставляет места для внутреннего разделения(2); Признаюсь, что не понимаю, почему Латур использует термин «существование» (скорее его интересует «способ»).
60. Латур Б. Политики природы. C. 35.
61. Worster D. The Wealth of Nature. P. 162.
62. Commoner B. The Closing Circle. New York: Knopf, 1971. P. 29.
______________
Переводчик: Валентин Горбунов
Обложка: ииван кочедыжников
Источник: Doxa
Выходные данные: Neyrat F. Elements for an ecology of separation. Beyond ecological constructivism // General Ecology. The New Ecological Paradigm / ed. E. Hörl, J. Burton. London; New York: Bloomsbury Academic, 2017. — 384 p.