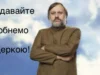Интервью с Жаном ле Биту, проведенное 10 июля 1978 г. в связи с относительно недавним выходом первого тома «Истории сексуальности». Название интервью «Le Gai Savoir», помимо отсылки к одноименной книге Ницше, содержит игру слов «gai» (веселый) и «gay» (гей). Некоторое время интервью считалось утерянным (в том числе самим ле Биту), в связи с чем не вошло в «Dits et écrits». Впервые было опубликовано только в 2005 г.
Почему, по-вашему, именно первый том «Истории сексуальности», среди прочих книг, понимают хуже всего?
(Фуко долго молчит.) Трудно вообще сказать, понимают ли книгу хорошо или плохо. Ведь в конце концов тот, кто эту книгу написал, и есть тот, кто ее понимает плохо. Отнюдь не читатель является тем, кто книгу понимает или не понимает. Не думаю, что автор должен диктовать законы для своей книги. Я бы сказал, что я был, скорее, удивлен приемом среди некоторых читателей.
Мне кажется, мы оказались в той ситуации, когда стоит вернуться к некоторым понятиям, слишком часто использовавшимся, перегруженным, крайне изношенным — например, к понятию репрессивности, — чтобы пересмотреть их значение, а главное увидеть, как они могли бы функционировать нынче, в новой ситуации, в рамках баталий и дебатов, чья форма, впрочем, за последние двадцать лет сильно изменилась.
Я думаю, всё это теперь немного улеглось, и первое впечатление — как сказать? удивления, что ли, — исчезло. Вероятно, оно было связано с простотой моих прошлых позиций (смеется), а также с тем фактом, что меня без особых проблем можно было ассоциировать с этакой бойскаутской концепцией борьбы против всех форм репрессивности, какими бы они ни были. Здесь, я думаю, был своего рода эффект, скажем так, чулана, куда запирались позиции, которые мне или другим приписывали.
Некоторые гей-активисты могут расценить это как решительную критику необходимости борьбы за гомосексуальность. Что вы по поводу этой борьбы думаете и нет ли в вашей работе уничтожения такого отраслевого типа борьбы, раз уж вы стали критиковать слово «гомосексуальность» и его социальные коннотации?
Что ж, я думаю, здесь следует быть предельно конкретным. Понятие «гомосексуальности» восходит к XIX в., то есть является достаточно поздним. И, на мой взгляд, это не просто позднее понятие. Я бы сказал, что разрыв со всеми остальными сексуальными практиками, со всеми формами удовольствия, со всеми видами отношений, которые могут существовать между людьми — этот разрыв со стороны гомосексуальности отчасти восходит именно к той эпохе. Например, в XVIII в., а также в начале XIX в. у людей был опыт отношения к собственному телу, к другим, у них был опыт свободы в большей степени либертенской, нежели в виде точной категоризации сексуального поведения, связанного с психологией, с желанием. Итак, гомосексуальность, поздняя категория.
То, что категория эта в конце XIX в. была взята на вооружение в ходе борьбы против определенной формы морали, определенных законов, определенной судебной практики — всё это совершенно несомненно. Достаточно просто взглянуть на понятие гомосексуальности 1870 года, чтобы увидеть, что широкие дискуссии вокруг гомосексуальности (против сегрегации) начинаются спустя двадцать лет, и чтобы понять, что для всего этого существовал абсолютно коррелятивный феномен: речь идет о стремлении заточить людей внутри этого понятия гомосексуальности. И, само собой, в ответ люди сражались: Жид, Оскар Уайльд, Магнус Хиршфельд и проч.
Поэтому когда я указал на исторический характер понятия гомосексуальности, то отнюдь не для того, чтобы сказать, что вести ответную борьбу с этим понятием было неправильно. Наоборот, я утверждаю, что сражаться с ним было и в самом деле необходимо, поскольку само оно выступало в качестве историко-политической ставки, которую хотели навязать форме опыта, форме связи, форме удовольствия, кои стремились исключить. Итак, я полагаю, что сегодня само понятие сексуальности, не говоря уже о понятии гомосексуальности, необходимо пересмотреть или, скорее, дать ему новую оценку.

В ходе предшествующей борьбы было совершенно необходимым принимать его, скажем так, всерьез. Нужно было указывать, что до нас, или над нами, стояли врачи, педагоги, юристы, взрослые, родители и т.д., говорившие о сексуальности. «Что ж, хотите — будем об этом говорить. В таком случае мы собираемся выдать сексуальности определенные права. Отлично». Что вовсе не означает, будто все права сексуальности оказались признаны. В любом случае, борьбу в итоге расширили и укрепили.
Я думаю, что теперь будет необходимо, так сказать, отпрыгнуть назад — не сдать позиции, но, скорее, восстановить ситуацию в более крупном масштабе. И спросить: что же, по сути, означает понятие сексуальности? Ведь если оно позволяло нам вести борьбу, оно же и несло в себе множество опасностей. С сексуальностью связаны психологизм, биологизм и, как следствие, ставка на сексуальность со стороны врачей, психологов, со стороны всех инстанций нормализации. Разве нет необходимости в том, чтобы против такого медико-биолого-натуралистского понятия сексуальности выдвинуть нечто иное? Например, право на удовольствие?
Тем самым избежав нового дискурса, который…
Избежав нового дискурса, который был, скажем так, порожден либеральными движениями. Иными словами, нужно освободить не только свою сексуальность, но и доктора Меньяна. Да. То есть освободиться даже от самого понятия сексуальности. Таково движение, которое я попытался набросать, так что это не разрыв с борьбой, но, наоборот, всего лишь предложение расширить борьбу и некоторым образом изменить фон, фокус.
В противном случае это будет локальной борьбой, которая исчерпает себя уже на уровне собственных слов.
Именно. Очень сложно, например, вести борьбу на языке сексуальности, не угодив в определенный момент в ловушку таких понятий, как сексуальное расстройство, сексуальная патология, сексуальная норма. Отсюда необходимость ставить проблему иначе. По этим соображениям я и предложил, пускай пока что абсолютно пунктирно, отчасти бессодержательно, тему удовольствия. Которая, как мне кажется, ускользает от медицинских и натуралистских коннотаций и которая порывает вместе с ними и с понятием сексуальности. В конце концов, нет никакого «ненормального» удовольствия, нет никакой «патологии» удовольствия.
Да и само удовольствие является чем-то бесспорным.
Именно. Таким, грубо говоря, было направление моей книги. Думаю, теперь читателям удалось восстановить ее смысл.
На первый взгляд всё это звучит непривычно.
Согласен. Но в любом случае речь идет не о критике предшествующих движений, а, скорее, об описании исторической ситуации, о констатации того факта, что борьбу невозможно вести всегда на одном и том же языке, не скатываясь при этом в стерильность, обездвиженность, не попадая в те или иные ловушки. Всё это означает смещение фронта. И, как следствие, изменение словаря. Столь же необходимы и перемены в области объектов.
Более широкий вопрос: исходя из чего вы рассматриваете социальные отношения как перманентную и императивную циркуляцию желания?
Что вы имеете в виду?
Желание, пронизывающее всё общество, фагоцитарно. Когда удовольствие служит лишь себе самому, общество, оказываясь тем самым под вопросом, как будто начинает исключаться. В этот момент социальные отношения больше не отчуждаются в форме ролей или императивов.
Хм. Я так понимаю, вопрос связан с понятием желания. Здесь, если хотите, я уверен, что в данный момент проблема «удовольствия-желания» является важной. Я бы даже сказал, что именно эта проблема и должна обсуждаться в ходе переоценки — ну или по крайней мере обновления — инструментов, объектов, фокусов борьбы.
Проблема эта столь сложна, что обсуждение ее, я уверен, заняло бы слишком много времени — наверное, всё наше интервью. Поэтому выскажусь схематично. Медицина и психоанализ значительно расширили употребление понятия желания, в частности, в качестве инструмента разработки вопроса сексуального удовольствия, а значит его стандартизации на языке нормы.
«Скажи мне, какое твое желание, и я скажу тебе, кто ты, скажу, болен ты или нет, нормален ты или нет, после чего я смогу дисквалифицировать твое желание или же, напротив, реквалифицировать его». В случае психоанализа это, на мой взгляд, более очевидно. В любом случае, если мы рассмотрим саму историю понятия — от похоти в христианстве, через сексуальный инстинкт в 1840-е гг. и вплоть до фрейдовского и послефрейдовского понятия желания, — мы вполне отчетливо сможем увидеть его функционирование.
Делёз и Гваттари, очевидно, используют это понятие совершенно иначе. Однако я не уверен, что вместе с этим словом, каким бы значением его ни наделяли, мы не рискуем, независимо от замысла Делёза и Гваттари, пропустить ряд медико-психологических предпосылок, вписанных в желание, в его классический смысл.
Поэтому я полагаю, что, используя слово удовольствие, которое в пределе не значит ничего, которое, на мой взгляд, еще не наполнено содержанием и девственно в плане его возможных употреблений, — рассматривая удовольствие исключительно в качестве события, которое производится, сказал бы я, вне субъекта, или же на границе субъекта, или между двумя субъектами, в некоем пространстве, которое не принадлежит ни телу ни душе, ни внутреннему ни внешнему, — когда мы таким образом переосмыслим понятие удовольствия, не окажется ли в нашем распоряжении средство избежать всего того психологического и медицинского каркаса, на котором было выстроено традиционное понятие желания?
Это лишь несколько вопросов. У меня нет какой-то фундаментальной привязанности к понятию удовольствия, но я довольно враждебно настроен по отношению к до- и не-делезианским понятиям желания. Впрочем, всё это, скажем так, в порядке методологических предосторожностей. Главное — это понятие события, не зависящее и независимое от субъекта.
Тогда как понятие желания в XIX в. прежде всего и в основе своей от субъекта было зависимо: это не событие, это разновидность неизменной характеристики субъективных событий, что в итоге ведет к анализу субъекта — анализу медицинскому, юридическому. «Скажи мне, какое твое желание, и я скажу тебе, что ты за субъект».
Почему мастурбация, даже в большей степени, нежели инцест, представляется вам главным объектом табу в области сексуальности в буржуазной семье XIX в.?
Мастурбация и правда кажется мне ключом. Ведь именно ее запрет инициирует у ребенка ограничительное отношение к сексуальности. Его тело, его удовольствие живет под знаком этого запрета, поскольку под запретом оказывается непосредственное удовольствие от своего тела, а также производство этого удовольствия в виде мастурбации.
Во-вторых, это был, если хотите, главный запрет, но в то же время он был фундаментом, на котором исторически выстраивалось, собственно говоря, знание о сексуальности. Потому что, если посмотреть, что происходило между XV и XVI вв., можно увидеть, как людей допрашивали насчет их желаний, как от них требовали в них признаваться, и практики эти всегда касались порядка взаимоотношений. То есть в каком-то смысле юридического порядка сексуальности.

«Исполняешь ли ты свой супружеский долг в отношениях со своей женой? Верен ли ты своей жене? Совокупляешься ли ты с ней так, как это предписывает естественный закон? Были ли у тебя другие партнеры или партнерши? Партнеры-животные, наконец?» Отсюда и юрисдикция половых отношений, которая занималась реальными практиками, а не намерениями, или желаниями, или тем, что называлось похотью.
В XVI в., вместе с великой педагогической реформой и, если угодно, колонизацией детства (или, точнее, вычленением детства в качестве особой хронологической категории в жизни индивида), в «Руководствах к исповеди», в трактатах по «управлению совестью» начинает вырисовываться существенная проблема, которая звучала так: «Касается ли твое желание прежде всего и по сути своей тебя самого?»
Очень любопытно наблюдать, как в этих руководствах базовым вопросом становится уже не вопрос: «Верен ли ты своей жене?» или: «Не хочешь ли ты женщин, помимо жены?» Первичным вопросом становится: «Не прикасаешься ли ты к себе в этих практиках?» Поэтому на первый план выходит отношение к себе.
На этой основе будет построено целое знание, которое уже не будет, так сказать, отчетом о юридическом статусе половых отношений — это будет знание о том, что ближайшим образом касается пола самого по себе, в его генезисе, в его первых движениях, в его самых первых впечатлениях и в этих взаимоотношениях с самим собой. В этот момент зарождается новая психология, которая связана уже не с половым правом, а с непосредственной природой сексуальности. Именно здесь, в наложении христианской исповеди на медицину, возникнет само понятие сексуальности.
Сексуальность займет место похоти. Похоть была связана с отношениями между полами. Сексуальность же — это нечто внутри меня самого, своего рода динамика, движение, постоянное влечение, направленное на первичное удовольствие — удовольствие от собственного тела. Вот почему мастурбация на Западе занимает наиболее значимое стратегическое положение: это первая форма запрета и исторически первая форма проблематизации сексуальности.
Именно поэтому я считаю вопрос мастурбации столь важным. Интересно наблюдать, как в рамках того же самого периода, в XVI-XVII вв., она будет становиться существенной проблемой не только в католичестве, но и у протестантов. В XVIII в. мы уже встречаем великую кампанию против детской мастурбации, вместе со знаменитым мифом, который с таким пафосом прозвучал в конце XVII — начале XVIII вв.: человеческий вид рискует исчезнуть с лица земли, если эта новая болезнь, мастурбация, станет распространяться. Мастурбация начинает восприниматься как недавняя эпидемия, совершенно неизвестная предыдущим поколениям, и это делает ее весьма любопытным феноменом.
Моя гипотеза, на самом деле, заключается в том, что, с одной стороны, новое здесь в том, что это стало проблемой. Новизна эта в каком-то смысле возникла в результате смещения: новой объявили саму мастурбацию, тогда как новым был ее статус проблемы. Следует, с другой стороны, добавить, что вся педагогическая практика, все игры надзора, беспокойства и тревоги, которые могли иметь место между родителями и детьми, всё это стало фокусироваться на уединенных удовольствиях, тех чувственных удовольствиях, которые субъект доставляет себе сам.
В этой игре родители, а вслед за ними и сам ребенок ставят на кон детское тело. Мастурбация начинает неожиданно интенсифицироваться, необязательно на уровне практики, но точно с точки зрения ее роли. Мастурбировать или не мастурбировать — вот что становится всё более и более важным.
Она становится ориентиром.
Она становится ориентиром, ставкой в борьбе между ребенком и его родителями. Мастурбировать под носом у родителей становится очень значимым в детском поведении, что не могло не иметь психологический последствий, которых у этого жеста не было прежде. Мы действительно может утверждать, что в XVIII в. произошла подлинная фабрикация, подлинное изобретение мастурбации.
Выходит, гомосексуальность не была первым изобретением медицинского знания.
Нет, первой была мастурбация. Ее изобретение связано с вычленением нового (по сравнению с похотью и половыми отношениями) типа реальности — реальности сексуальной.
Я мог бы переформулировать свой вопрос. Он касается гомосексуалов. Почему считается, что удовольствие, которое они находят в выражении своей нежности и своего счастья, оказывается социально более неприемлемым, чем разговоры об этом, чем акт содомии?
Так. Мне этот вопрос кажется важным. Не уверен, что то, что я скажу, будет верным. У меня сложилось впечатление, что практика — содомическая или, так сказать, гомосексуальная — в общем и целом принимается. К удовольствию относятся терпимо, но не принимают счастье. Практику принимают, это факт. Потому что содомическая практика не есть лишь факт гомосексуальный — в той же степени она принадлежит и гетеросексуалам.
Второе: по сути неважно, насколько ригидной и пуританской была христианская цивилизация, эта ригидность не могла бы функционировать без известной доли терпимости, которая и была условием ее функционирования — так же, как преступность является условием функционирования пенитенциарной системы; так же, как существование оставшихся без наказания преступлений позволяет другим преступлениям наказанию подвергаться: если бы наказан оказывался каждый проступок, система просто-напросто перестала бы работать (смеется).
Короче, беззаконие — это часть функционирования закона. Как следствие, запретные практики являются частью функционирования того закона, который накладывает на них запрет. По этой-то причине к развратным практикам и относятся терпимо и даже принимают их.
К удовольствиям относятся терпимо. В связи с чем мне интересно, не произошло ли в обществах, подобных нашему, по крайней мере за последние несколько лет, расширения экономии удовольствия. То есть существуют общества, которые признают все желания и все практики, но не все удовольствия. Существует определенное качество, определенная сумма удовольствий, выставлять напоказ которые будет скандальным.
Тем более в рамках новой экономии удовольствия, которая кажется чем-то неотъемлемым, но на деле имеет лишь частичную значимость. В конце концов, удовольствие проходит подобно юности: «Если в этом их удовольствие, пускай получают его. Слишком далеко оно их всё равно не заведет. Мы знаем, что у них будет достаточно боли и печали: так они заплатят высокую цену за получение этого удовольствия — своим одиночеством, своими расставаниями, своими склоками, своей ненавистью, своей ревностью и т.п.». За удовольствие придется платить, это людям известно, а значит оно им уже вроде и не мешает.
Другое дело счастье. Кому принадлежат слова о том, что удовольствие можно купить лишь ценой фундаментального несчастья? Вот что нарушает принцип этой компенсаторной экономии удовольствия и что является нестерпимым. Ведь они не только открыто практикуют то, что другим запрещено, получая от этого удовольствие, но, вдобавок ко всему, ничто не заставляет их за эти удовольствия расплачиваться, что и вызывает ответную реакцию на эти запретные практики, всё подрывая.
То есть они даже не наказывают сами себя?
Да, они даже не наказывают себя. Уверен, именно поэтому, когда видят двух гомосексуалов, нет, двух мальчиков, которые вместе идут спать в одну постель, к ним остаются терпимы, но вот если на следующее утро они проснутся с улыбкой на лицах, если они будут держаться за руки, нежно целуясь и всем видом заявляя о своем счастье — этого им уже никто не простит. Не терпят не когда кто-то отправляется получать удовольствие, но когда он просыпается счастливым.
Можно поговорить о содомическом акте. Терпимость расположена на уровне речи. Но счастье не говорит, и обсуждать его невозможно. Не получится управлять событием, которое только что имело место. Говорить и называть тогда уже недостаточно. Факт излучается на себя и потому подвергается исключению.
Вы совершенно правы. Потому что желание или какую-то практику всегда в итоге можно будет объяснить. Всегда найдется гомик, который видел содомирующих друг друга родителей — его практика таким образом оказывается доступна объяснению. Но его счастье?
Вот что создает столько проблем…
Удовольствие между парой возможно. Удовольствие, да, если известно, что они при этом испытали тревогу. В случае акта всегда есть лежащий в основании желания фантазм. Однако что находится по ту сторону счастья? Нашей объяснительной силе больше нечего сказать, вот что нестерпимо. По ту сторону счастья нет тревоги, нет никакого фантазма.
В воображении гомосексуалов некоторые пытаются разглядеть привязанность или идентификацию с женщиной. Есть ли в мужской гомосексуальности «становление-женщиной»?
(Фуко смеется.) Что ж, если вы не против, оставим в стороне выражение «становление-женщиной». Это опять же очень важная проблема.
Я бы хотел обсудить не столько воображение гомосексуалов, сколько идентификацию, это движение в сторону женственности или даже трансвестизма.
Да, вот только всё это и правда крайне запутанно. Я лишь могу развести руками. Единственное, что могу сказать наверняка: исторически, если взглянуть на то, чем по видимости были гомосексуальные практики, связь с женственностью была весьма важной, по крайней мере с определенными формами женственности. В этом месте располагается вся проблематика трансвестизма, который не только был связан с гомосексуальностью, но и составлял ее часть.
Более того, я бы сказал, что на самом деле трансвестизм в большей степени связан именно с гетеросексуальностью, нежели с гомосексуальностью. Так, одним из значимых мест трансвестизма была армия: одевавшиеся под мальчиков женщины, сопровождая армейские части, вели жизнь путан, или потаскушек, или похотливых женщин (смеется). Эти общества (армия, монастыри), т.е. институты крайне однополые, и породили трансвестизм в рамках гетеросексуальности. В конце концов Керубино из «Свадьбы Фигаро» был трансвеститом, но трансвеститом гетеросексуальным.
Поразительным, как мне кажется, скорее является тот факт, что, когда во второй половине XIX в. гомосексуальность стала медицинско-психиатрической категорией, ее сразу же стали анализировать сквозь решетку гермафродитизма. Кто такой гомосексуал, в какой форме он проникает в медицину, если не в форме гермафродита?
То есть те, чей сексуальный интерес был определенным образом двойственным, те, кто эту двойственность в каком-то смысле несли внутри себя, оказывались разом мужчиной и женщиной. Тут-то и было предложено понятие психического гермафродитизма, что и породило, как вы знаете, все виды анализов (смеется), а также вмешательства путем гормональных трансформаций.
Тогда-то и сложилась та очень запутанная игра, в ходе которой были вывернуты наизнанку все ставки, которыми хотели управлять в прямой опоре на медицинское и психиатрическое знание. «Получается, мы гермафродиты? Что ж, ладно! Тогда мы будем еще большими женщинами, чем нам об этом говорят наши врачи».
И, несомненно, между анализом гомосексуальности сквозь призму тайны женственности и вызовом со стороны гея, объявившего себя женщиной, существовал определенный исторический обмен. Ответ в виде вызывающего подобия: «Вы хотите, чтобы я был таким? Ладно, я буду совершенно похож на то, чего вы хотите, даже более, чем вы думаете, пока вы не окажетесь в полной заднице». (Смеется.)
Это хорошо видно в теории третьего пола Магнуса Хиршфельда. В указании на хромосомную или генетическую ошибку. Это наложило свои ограничения на то, что в начале столетия могли ответить первые гей-движения. Эта идентичность, к которой они обратились в ходе своего рода блуждания, очень быстро оказалась переприсвоена.
Совершенно верно. Тут и обнаруживается запутанность всех этих игр: врачи начинают говорить: «Но они же гермафродиты, а значит дегенераты», на что гомосексуалы отвечают: «Раз уж вы принимаете нас за смешение полов, у нас будет своя особая сексуальность. У нас будет разом два пола, либо третий пол, суть которого в том, чтобы обладать сразу двумя».
Так гомосексуалы трансвестировались.
Гомосексуалы трансвестировались. На что врачи сказали: «Ладно, третий так третий. Вот увидите, путем гормональной терапии мы сможем исправить и это». На что геи ответили: «Не нужны нам ваши гормоны. Но если уж вы так настаиваете, мы их используем, чтобы и правда превратиться в женщин. Нам нужны женскиегормоны». Короче говоря, перед нами целая серия движений, поддающаяся анализу с точки зрения их стратегии.
Где каждый апеллирует к другому.
Вот именно.
Так они пытаются прийти к отрицанию идентичности или обрести новую.
Да, своего рода зигзаг отвечающих друг другу стратегий, по-своему интересных. Всё это вновь вызывает к жизни, во всей его двусмысленности, вопрос женственности — в самом сердце гомосексуальности. Поскольку позволяет медицине сделать на него свою ставку. Но совершенно недавно это также позволило развернуть контратаку в опоре на обратную стратегию, чтобы спросить: «В конце концов вопрос женственности — как его в общем и целом рассматривали в нашей фаллократической культуре?»
Как следствие, появляется стратегическая возможность взаимоотношений с феминистским движением. И право гомосексуалам сказать: «Наш вкус к мужчинам является не еще одной формой фаллократического культа, но, скорее, определенным способом нам, мужчинам, также поставить вопрос о женственности». С политической точки зрения это было весьма интересно.

Ведь то, что нынче, по-видимому, происходит в Соединенных Штатах, напоминает некий отлив, как если бы американцы возвращались к моносексуальному мачизму, когда мужчины всеми силами подают знаки мужественности, дабы остаться самими собой. Как если бы между мужчинами и женщинами вновь опустился занавес. Усатые-волосатые геи превратились в эротизированный морфологический тип гомосексуала наших дней: как минимум тридцатипятилетний, со сложением бейсболиста, с огромными усищами, весь покрытый волосами. Добавьте сюда байкерскую кепку, кожаные штаны, жилетку, цепи и всё такое прочее.
В итоге, однако, приглядевшись, вы обнаружите, что весь этот прикид, вся эта геральдика мужественности совершенно не совпадает с пересмотром мужского как мужского. Наоборот, под прикрытием этих знаков мужественности разворачиваются мазохистские сексуальные отношения или мазохистское утверждение, в рамках которого нет и намека на признание мужчины как мужчины. Абсолютно. Напротив, такое обращение с телом можно было бы назвать десексуализированным, обезжизненным, подобно фистингу или другому необычному производству удовольствий, которых в США добиваются не без помощи наркотиков или определенных приспособлений.
Более того, повседневные отношения между такими мужчинами, которые иногда также занимаются практиками совместной сексуальной жизни, исполнены нежности и страсти. Короче говоря, знаки мужественности им нужны вовсе не для того, чтобы вернуться в измерение фаллократизма или мачизма, но, скорее, чтобы изобрести самих себя, позволить сделать свое мужское тело местом производства необычных полиморфных удовольствий, свободных от оценок пола и, в частности, пола мужского.
То же самое, по-моему, в какой-то степени имеет место в феминистских движениях. Посмотрите, что говорят Паскаль Брюкнер и Ален Финкелькраут в «Новом любовном расстройстве», где есть страницы, напрямую посвященные удовольствию и необходимости порвать с его вирильной формой, которая ориентирована на оргазмическое наслаждение в смысле мужской эякуляции, страницы, которые релевантны как для женской сексуальности, так и для сексуальности гомосексуалов. Это очень похоже на то, чем является сексуальность американских гомосексуалов.
Это новое достижение, по всей видимости, делает возможным освобождение от этой идеи — а она, разумеется, была интересной в плане стратегии — идеи, согласно которой мужская гомосексуальность фундаментально связана с женственностью. Без сомнения, сегодня следует сделать от этой идеи шаг назад. И, как следствие, попытаться помыслить гомосексуальность как определенное отношение к телу и удовольствиям, которые необязательно осмыслять в опоре на женственность.
Также становится видно, например в области рекламы или моды, до какой степени женственность в форме женщины-объекта была изобретена мужчинами для мужчин же. В конце концов, нет больше никакого женского кроме трансвестизма. Это подтверждается тем удивлением, которое возникает у некоторых мужчин, когда они, благодаря демистифицирующим жестам трансвеститов, находят лишь хитрый обман там, где раньше предполагали наличие чистой женственности. Это нечто вроде фантазматической, сменившей свой объект проекции.
Всё так.
Но все эти американские атрибуты мужественности, о которых вы говорили, принадлежат шпане, достаточно агрессивно настроенной против нас.
Да, но, насколько мне известно, в Соединенных Штатах всё меняется, причем довольно быстро. Пару лет тому назад я был в Калифорнии, и вроде бы ни разу не видел никаких конфликтов между гомосексуалами в кепках и кожаных жилетах и американской шпаной. Интригует, на самом деле, то, что в Париже, как вы сами знаете, в определенных районах, мальчик не сможет ночью выйти на улицу в кожанке, чтобы при этом на него не напала шпана, которая станет спрашивать у него, по какому такому праву он разгуливает тут в этой одежде.
Нет нужды говорить, что, если шпана заподозрит в нем гомосексуала, она не только украдет его кожанку, но и сильно изобьет. У нас здесь существует серьезный конфликт между гомосексуалами и откровенно агрессивными маргиналами. У гомосексуального личика во Франции есть такая традиция — быть битым. Были, например, времена, когда избить педиков ночью на Марсово поле выходила не шпана, а солдаты, проходившие службу в двухэтажных казармах. Таково было их развлечение: выбить из педика дух. Мне кажется, эта проблема так и не нашла достаточного или адекватного решения. Даже не знаю, обсуждалась ли она широко внутри гомосексуальных движений.
Не совсем так. Такой интерес-отвращение педики у шпаны вызывали всегда: внутри их группировок, созданных на основе латентного гомосексуального желания, всегда была нужда в какой-нибудь внешней отдушине. Внутри же гомосексуальных движений обсуждался разве что вопрос самозащиты. Основной проблемой, которая так и не получила разрешения, была агрессия между мужчинами.
Поднималась ли эта проблема в движениях вроде «Marge»?
Не думаю.
Мне кажется, что там ее должны были ставить. В конце концов, спрашивать у педика, по какой причине его избивает шпана, интересно, конечно, но несколько спекулятивно (смеется).
У меня в пригороде есть приятель, который открыл свои апартаменты для шпаны с района, и там они между собой там занимаются сексом. Это позволило ему поднять вопрос гомосексуальности и заставить их перестать избивать педиков.
Сколько раз им понадобилось трахнуть друг друга в задницу, прежде чем прийти к такому чудесному результату? (Смеется.)
Какую роль играют сауны с их практиками в противостоянии между своим телом и телом других?
(Смеется.) О-ля-ля. Мы уже вроде бы говорили об этом. Меня главным образом удивляет критика той или иной сексуальной практики, которую нередко можно прочитать, причем не только во Франции: водить в свой дом мальчиков плохо, потому что это-де буржуазно. Тайком заниматься любовью в общественных туалетах плохо, потому что это равносильно согласию на буржуазного гетто. И потом, ходить в сауну, чтобы потрахаться с людьми, чьих имен ты даже не знаешь, с кем ты даже не обменяешься хоть парой слов…
Это потребление.
Это потребление, и поэтому (смеется) это всё буржуазный мир. Ладно. Всё это мне кажется несколько наивным. Все эти вещи, а по определению и всё остальное, имеет лишь стратегический смысл. Стратегически важно жить как можно более открыто, с тем, кого любишь: с мальчиком так с мальчиком, с мужчиной так с мужчиной, со старичком так со старичком. Стратегически важно, встретив на улице мальчика, поцеловать его и по возможности заняться с ним любовью, хотя бы и на заднем сиденье, если захочется.
Столь же важно, по-моему, чтобы существовали места вроде саун, где, не будучи связанным своей идентичностью, своим семейным положением, своим прошлым, именем, лицом и т.д., можно встретить людей, которые туда приходят и которые для вас, как и вы для них — лишь тела, с которыми возможны самые неожиданные сочетания и фабрикации удовольствия. Это абсолютно важная составляющая эротического опыта, и я бы сказал, что политически важно, чтобы сексуальность могла функционировать таким образом.
Жаль только, что нет таких же местечек и для гетеросексуальности. В конце концов, разве это не было бы чудесно, если бы гетеросексуалы прямо посреди дня или ночью могли бы пойти в подобное место, оснащенное всеми удобствами и возможностями (смеется), всеми благами, какие только можно себе представить? Чтобы встретиться с телами, настоящими и мимолетными одновременно? Место, где ты десубъективируешься — не то чтобы наиболее радикально, но в любом случае достаточно интенсивно, чтобы этот момент в итоге оказался значимым.
Вы бы даже могли сказать, что этот момент субверсивен, поскольку нельзя быть связанным чем-то в большей степени, чем самим собой, и поэтому в сауне становится удивительной сама идея, что ты есть у самого себя благодаря своей сексуальной идентификации, благодаря кодификациям, через которые прошли твои удовольствия. Аноним в сауне, ты свободен лишиться и этого. В одном положении вместе с другими, ты может узнать что-то о своем отношении к самому себе. Такого рода анонимность субверсивна.
Абсолютно. Интенсивность удовольствия в самом деле связана с десубъективацией, с тем, что ты перестаешь быть субъектом, идентичностью. Это словно утверждение не-идентичности. И не только потому, что ты оставляешь свои документы в гардеробе, но и потому, что множественность возможных вещей, возможных встреч, возможных скоплений, возможных связей означает, что на самом деле ты не можешь не потерпеть неудачу в том, чтобы оставаться идентичным самому себе.
Можно даже сказать, что это в пределе десексуализирует (смеется). В этом смысле такой момент представляет собой своего рода погружение под воду, достаточно интенсивное, чтобы выйти на сушу уже без желания, как в прямом, так и в хорошем смысле этого слова. Без всякого стремления и без всякого сосущего чувства, которое порой возникает даже после относительно удовлетворительных сексуальных отношений.
И, наконец, важно знать, крайне важно знать, что повсюду, в любом городе ты всегда найдешь подвальчик, открытый для всех желающих, лесенку, по которой надо всего лишь спуститься (смеется), короче, чудесное местечко, где ты сможешь производить какое угодно удовольствие столь долго, сколько только тебе захочется.
Это также позволяет нам понять, в какой степени сексуальное напряжение способно разрушить такое количество жизней. Гетеросексуальность может быть более восприимчива к такого рода сложностям, потому что ей такие места, такие возможности регенерации недоступны.
Знаете, когда мы размышляет обо всех этих несчастных гетеросексуалах, у которых в конечном итоге только и есть что жена, начальница да проститутка… (смеется)
Это еще в лучшем случае!
Да, в лучшем случае. Знаете, их скорее стоит пожалеть. Так или иначе и здесь есть свой важный опыт.
Поговорим о клубах. Мы их уже обсуждали. Не происходит ли там переутверждение ролей, переутверждение денег? Полиция такие места преследует гораздо реже, чем парки или сауны. Я не хочу говорить про гетто, потому что военная фразеология сваливает в одну кучу регенеративные и отчуждающие места. Что вы об этом думаете?
Ну, целиком и полностью я за вами тут не пойду. Я, конечно, только что пропел хвалебную песнь во славу саунам (смеется). Но я бы не хотел что-либо критиковать. В любом случае, мне не кажется, что нам стоит говорить, будто сауны — это хорошо, а вот клубы — это плохо. Клубы, в конце концов, знаете ли…
В Японии, например, они есть. Там их тысячи. В Токио, в Киото. Крошечные клубы, с одной лишь комнаткой на пять-шесть человек (смеется). О, там ничего особенного не происходит: на стульях сидят люди, общаются, выпивают, напиваются. На самом деле, для встреч там не так много возможностей. Прибытие в клуб чужака или кого-то малознакомого — целое событие, потому что, по большому счету, ходят туда постоянные посетители, всегда одни и те же люди, которых там можно найти.
Там течет своего рода общинная жизнь, которая в обществе вроде японского важна, ведь брак там — обязанность. Поэтому по вечерам они ходят в свои клубы, чтобы встретиться со своим маленьким и постоянным сообществом, с верными членами и другими посетителями. Так почему бы и клубу не быть приятным местечком?
Конечно (и это верно для саун в том числе), такие места связаны с рэкетом — экономическим, полицейским, преступным, — который сильно меняет то позитивное значение этих мест, которое у них могло бы быть. На всё это накладывается целая серия поведений, которую можно было бы назвать гомосексуальным театром: люди туда приходят, чтобы на них посмотрели, на их красоту, на красоту их любовников, чтобы выказать в адрес других свое презрение, обозначить дистанцию, стать видимыми и проч. «Смотри на меня, но трогать не смей». Или: «Как смеешь ты смотреть на меня, меня, у которого нет ни малейшего желания смотреть на тебя?»

Но как бы то ни было, клуб есть клуб, так что весь этот гомосексуальный театр сидит на наркоте. Проблема же заключается в той стратегии, с помощью которой можно было перевернуть функционирование таких мест. Не знаю, как обстоят дела в Париже, но найдись пара смельчаков, которые бы захотели открыть клуб, им, разумеется, ни за что не удалось бы этого сделать без того, чтобы полиция заставила их скооперироваться с мафией. Полиция не станет терпеть гомосексуальный клуб, который каким-то образом не был бы повязан с какой-нибудь шайкой.
Чтобы было легко проводить туда малолеток, которые не выглядят на свой возраст, а после этого устраивать рейды.
Вот именно.
Прошлым июнем в Сенате было принято предложение Кайаве. В сентябре оно должно пройти через Национальную Ассамблею. Вы были одним из тех, кто его подписал. Сможем ли мы наконец достичь свободы в области морали и особенно гомосексуальности?
Более важным является проект по реформированию Уголовного кодекса, который уже завершен и отправлен в правительство. Я звонил им утром — мне сказали, что никакой дискриминации между гомосексуалами и гетеросексуалами уже нет. Всё это продвинулось дальше, чем в случае поправки Маргета. Не знаю, какие еще есть статьи. Вы знаете, что я консультировался насчет этой реформы, вместе с Рене Шерером и Ги Хокенгеймом, по поводу раздела, касающегося сексуального законодательства.
Это было не так легко, потому что теоретически никакого сексуального законодательства у нас попросту нет. Но в центре находилась проблема изнасилования и возраста согласия. Со своей стороны я не понимаю, как так получается, что дети, которые или по дороге в школу на стенах, или по телевизору видят то, что видят, до сих пор считаются с точки зрения сексуальности несовершеннолетними. Я даже удивился, что комиссию не шокировало, когда мы предложили тринадцать или пятнадцать лет, как в Скандинавии.
Я думаю, что с учетом той эволюции, свидетелями которой мы нынче являемся, мы вот-вот откроем для себя ту необычайно высокую цену того, что представляет собой, скажем так, репрессивная власть. Мы, разумеется, знакомы с работами Трехсторонней комиссии, посвященные тому, во что нам обходится демократия и общество толерантности. Мы и правда можем подсчитать их стоимость. Но можно сделать это и в ином смысле.
Стоимость репрессивной власти чрезвычайно высока — не только экономическая стоимость, но и стоимость людской ненависти, ненависти их соседей, столкнувшихся с нетолерантностью. Нетерпимость озлобляет не только нынешние либеральные движения, но и интеллектуалов, которые играют во всем этом свою роль. А это повышает политическую стоимость репрессивности.
Грубо говоря: к чему сваливать всю вину на гомосексуалов? В чем преимущества преследующего их общества? Рождаемость? Это в эпоху таблеток? Или борьба с сифилисом? Наши технократы и правители, даже если у них нет злых умыслов, отнюдь не дурачки: они прекрасно знают, что борьба с сифилисом, например, ведется не посредством репрессий в отношении определенных категорий индивидов, а путем информационных кампаний.
Так, в ряде американских саун, на входе, есть отделы консультации, где можно узнать, что здесь вообще происходит. На самом деле это единственный путь. Рационализация власти необязательно происходит за счет умножения репрессий. Всё наоборот. У репрессий очень высокая политическая цена. А с нынешним климатом, со всеми этими движениями, пронизывающими наше общество, есть риск ее повышения.
Так что гораздо полезнее будет попытаться сделать так, чтобы люди признали тот уровень безработицы, с которым мы столкнулись и который будет сохраняться еще годами — вместо того чтобы озлоблять всех преследованиями гомосексуалов в клубах и саунах. Всё это известно уже давно, просто теперь становится еще очевиднее: у власти есть своя цена. Здесь нет чистой выгоды. Каждый раз, когда мы совершаем тот или иной властный акт, у него есть цена, причем не только экономическая.
Автор: Сигма