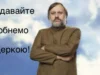Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В книге «Постанархизм», которая готовится к выпуску издательством «Рипол-Классик» и выйдет в мае 2021 года, британский политический теоретик Сол Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией.
Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни.
Мы публикуем введение к этой книге, в котором Ньюман описывает кризис анархизма в его классическом понимании как революционного проекта, имеющего конкретные цели, и обосновывает необходимость онтологического анархизма, не следующего устаревшим шаблонам XX века и не имеющего конкретных идеологических контуров.
От анархизма к постанархизму
Анархизм: краткое описание политической ереси
Поскольку эта книга посвящена теоретизации современных пост-этатистских форм радикальной политики, необходимо обратиться к политической теории анархизма. Здесь мы сразу же сталкиваемся со следующей проблемой: анархизм, в большей степени, чем другие политические идеологии и традиции, сложно определить согласно четким параметрам. Он, в отличие от марксизма и ленинизма, не объединен ключевыми именами, хотя и у него есть свои важные теоретики, о некоторых из которых я расскажу в этой главе.
Также анархизм не может быть очерчен определенной периодизацией, и хотя существовали моменты его большой исторической значимости, по большей части он вел маргинальную жизнь политической ереси. В таком случае попробуем взглянуть на анархизм как на собрание разнообразных неортодоксальных идей, нравственных ценностей, практик, исторических движений и сопротивлений, воодушевленных тем, что я называю антиавторитарным импульсом, то есть стремлением подвергать критическому осмыслению, отвергать, трансформировать и ниспровергать любые отношения власти, особенно те, что концентрируются внутри суверенного государства.
Пожалуй, самое радикальное заявление, которое выдвигают анархисты, состоит в том, что у государства нет ни рационального, ни морального оправдания, его порядок по своей сути деспотичен и жесток, и, более того, мир может прекрасно существовать без этого бремени. Анархистские сообщества — это сообщества, лишенные государственности, где социальные отношения автономно, напрямую и сообща управляются самими людьми, а не отчуждаясь централизованными институтами.
Именно непримиримая враждебность по отношению к государственной власти отличает анархизм не только от более консервативных доктрин, но от либерализма, который видит в государстве необходимое зло, социализма и даже революционного марксизма, видящего в государстве инструмент, необходимый, по крайней мере на «переходном» этапе, для построения социализма, будь то посредством социал-демократических реформ или же путем революционного захвата государственной власти.
Между анархизмом и марксизмом ведется давний спор. История его берет начало еще в XIX веке, когда Первый интер национал раскололся, в значительной степени из–за вопросов революционной стратегии и роли государства, на последователей русского анархиста Михаила Бакунина и последователей Маркса.
Более «авторитарные», по характеристике Бакунина, представители социалистического движения, включая Маркса, Энгельса и Лассаля, рассматривали государство в качестве инструмента классовой силы, который, если он будет находиться в руках правильного класса, т. е. пролетариата во главе с коммунистической партией, сможет стать полезным средством революционного преобразования.
В противовес этому более либертарианское крыло рассматривало государство как в самой своей сути структуру доминирования, которая после революции не просто не отомрет, как на это надеются другие, но только увековечит себя, и потому оно является главным препятствием на пути революционных преобразований. Следовательно государство — это аппарат, который должен быть уничтожен, а не захвачен. Стремление к политической власти являет ся ловушкой и может привести только к катастрофе. Другие аспекты спора касались организации революционной партии, вопросов руководительства и распределения полномочий, которые Ленин излагает в «Государстве и революции» (1918).
Последствия этого великого раскола в революционной теории и практике отзываются уже более ста лет после того, как они нашли свое трагическое воплощение, превратив большевистскую революцию в сталинское тоталитарное государство. Подробности марксистско-анархистского спора уже рассмотрены мною достаточной подробно в другой работе, поэтому здесь я не буду на этом останавливаться.
Самое мощное откровение, к которому пришли анархисты, заключается в том, что революция должна быть либертарианской как по средствам, так и по целям и что если принести средства в жертву или просто использовать их для достижения целей, то и сами цели окажутся в конце концов принесенными в жертву. Здесь речь идет о ставке анархистов на «префигуративную политику», о чем я расскажу далее.
Таким образом, анархизм — это форма политики и этики, центральное место в которых занимают ценности человеческой свободы и самоуправления, напрямую связанные с равенством, которая видит в авторитарных и иерархических отношениях, укорененных не только в государстве, но и в капитализме, в институционально оформленной религии, в патриархате и даже в некоторых видах технологий, внешние ограничения и препятствия на пути человеческой свободы.

В анархистском воображаемом центральное место занимает противостояние между общественными отношениями, которые свободно формируются и саморегулируются в своем «естественном» состоянии — с одной стороны, и внешними структурами власти и управления, прежде всего — суверенным государством, которые вмешиваются в эти произвольные общественные процессы и отношения, портят и искажают их, навязывая искусственные, иерархические и деспотичные отношения, в которых отчуждается человеческая жизнь — с другой.
По словам мыслителя XVIII века Уильяма Годвина, государства «…прикладывая свои руки к источнику, который находится внутри общества, останавливают его течение» (1968: 92). Государство, эта адская машина господства и насилия, которая не может быть оправдана ни религиозными иллюзиями, ни либеральными выдумками типа общественного договора, ни даже современными демократическими концепциями «согласия», является главным препятствием на пути человеческой свободы и человеческого развития.
Как не без драматизма выразился Бакунин: «Государство в целом есть подобие обширной бойни или огромного кладбища, где незаметно, в тени, и прикрываясь этим отвлеченным не что, этой абстракцией, с притворным сокрушением, при носятся в жертву и погребаются все лучшие стремления, все живые силы страны» (1953:207).
Конец метанарратива
Мы можем наблюдать, насколько сильно некоторые аспекты анархистской мысли могут резонировать с со временными формами политической борьбы, которые позиционируют себя как находящиеся вне государства и автономизируются от него.
Когда Бакунин в своей революционной программе призывает к другому виду политики, то есть не к захвату государственной власти с помощью «политической» революции, а к революционному преобразованию всех общественных отношений (то, что он называет «социальной революцией»), когда он говорит о необходимости того, чтобы массы XIX века «организовали свою власть независимо от государства и против него» — похоже, что он призывает к такой политической форме, как восстание, когда люди самостоятельно преобразуют свою жизнь и свои отношения вне непосредственного контроля государства (см. Bakunin, 1953: 377).
Нам необходимо осмыслить и переосмыслить то, что этот призыв «организовывать [наши] силы отдельно и против государства» означает сегодня.
Тем не менее, если нынешняя ситуация требует переосмысления или даже возвращения к анархизму, то о какого рода возвращении мы можем говорить? Кажется маловероятным, что революционный анархизм XIX века обладает сегодня прежней актуальностью или хотя бы может быть концептуализирован тем же самым образом. Анархист Альфредо Бонанно (1988), объективно оценивая последствия зарождения постиндустриального общества в конце 1970-80-х годов для анархистской политики, говорит следующее:
«Для них [сегодняшних анархистов] (так же, как и для меня) анархизм, который считал, что сможет стать организационной точкой отсчета для следующей революции, который видел себя в качестве структуры синтеза, нацеленной на порождение множественных форм человеческой деятельности, которые будут направлены на разрушение государственных структур консенсуса и репрессий, сегодня мертв. Застывший анархизм традиционных организаций, основанный на требовании лучших условий и имеющий количественные цели, сегодня умер. Идея о том, что социальная революция должна обязательно стать результатом нашей борьбы, проявила себя как несостоятельная. Социальная революция может стать таким результатом, но, опять же, может и не стать».
Я полагаю, что здесь ставится под сомнение революционный метанарратив, который в прошлом приводил в движение анархистскую мысль и политику. Центральное место в этом метанарративе занимает история освобождения человека от состояния рабства, навязанного агрессивными силами государственной власти свободному и рациональному существу, и перехода к свободе и полноценному человеческому существованию.
Иными словами, революционное разрушение государства, а вместе с ним — капитала и церкви, и построение на их месте свободного общества освободило бы человека от угнетения, неравенства и невежества и позволило бы ему осознать всю полноту собственной человеческой природы. Более того, основу такого революционного нарратива образует идея о том, что под слоями «искусственной» политической и экономической власти лежит естественная общность, рациональная и нравственная склонность устанавливать социальные связи, присущая человеческому субъекту, но пока еще латентная и находящаяся в спящем режиме.
Именно благодаря этой идее анархизм мог отстаивать мысль о том, что социальные отношения могут стать самопроизвольно саморегулирующимися, как только государство будет свергнуто. Более того, это врожденное стремление к социализации может быть научно обнаружено и доказано. Наиболее известным примером является развиваемая Петром Кропоткиным (1972) теория «взаимопомощи», которая противоположна эгоистической конкуренции, и которую он представляет как эволюционный биологический инстинкт, наблюдаемый как в животных, так и в человеческих отношениях.
Мюррей Букчин, современный представитель подобного позитивистского подхода, который он называет «диалектическим натурализмом», видит возможности рационально организованного общества, воплощенными в некой социальной тотальности, имманентно присущей природе, чье диалектическое развитие приведет к расцвету человеческой свободы (см. Букчин, 1982: 31). Анархизм как революционная философия сформировался под влиянием просветительских нарративов освобождения, прогресса и рационализма. Он был одновременно революционной программой и наукой об общественных отношениях.
И именно эти нарративы наделили анархизм такими детерминистскими чертами, которые Бонанно определил как отмершие и неработающие. Хотя революционный анархизм никогда не был на столько детерминистским, как марксизм, и допускал гораздо большую степень свободы человеческого действия за пределами «железных законов» истории, он тем не менее всегда был частью универсализирующего метанарратива о человеческой свободе, а социальная революция, неизбежно ведущая к появлению общества без государства, должна была стать событием, которое трансформирует всю тотальность отношений.
Подобный образ мышления политики и социальных отношений в определенный момент был поставлен под сомнение. Многие утверждают, что мы живем в эпоху после заката метанарративов. Действительно, как утверждал Жан-Франсуа Лиотар (1991), поздний модерн (или постмодернизм, если мы можем принять этот термин) характеризуется определенным скептицизмом или «не доверчивостью» в отношении к метанарративам.
Универсалистский дискурс занимает центральное место в опыте модернизма: он реализован в категории универсальной объективной истины, которая является или должна являться очевидной для всех, или в мысли о том, что мир становится все более рационально умопостигаемым благодаря достижениям науки. Но такая структура мышления и опыта переживает глубокий процесс распада в связи с определенными трансформациями знания в постиндустриальную эпоху.
Процессы легитимации становятся все более и более сомнительными и неустойчивыми: случайный и произвольный характер процесса познания и, соответственно, тот факт, что в конечном итоге он основан на отношениях власти и отчуждения, становится очевидным, и это порождает кризис репрезентации. Более того, Лиотар указал на распад знания об обществе: общество больше не может быть полностью представлено в знании ни как единое целое, ни как раз деленное на классы тело. Социальные связи, которые обеспечивают обществу единство репрезентации, сами переосмысливаются с помощью составляющих их языковых игр. По словам Лиотара, происходит «атомизация» социальности в гибких сетях языковых игр» (1991: 17).
Это не означает, что социальные связи полностью исчезают, просто больше не существует единого, доминирующего, целостного понимания общества. Вместо этого существует множество различных нарративов или точек зрения. Конечно, не стоит слишком оптимистично относиться к таким обстоятельствам. Диагностированное Лиотаром «постмодернистское состояние» было одновременным диагностированием зарождения неолиберального положения, чью логику похоже что также отражают эти самые «гибкие сети» и атомизация.
Однако упадок метанарратива означает своего рода сдвиг или смещение в порядке социальной реальности, из–за чего мы больше не можем полагаться на устойчивый онтологический фундамент, обеспечивающий основу рефлексии и, тем более, политических действий. Политика больше не может руководствоваться универсальными истинами или универсальными рациональным и нравственным дискурсами, так же как и неким общим опытом общества или сообщества.
Постструктуралисты, такие как Мишель Фуко, Жак Деррида, Жиль Делез и Феликс Гваттари, по-разному подходили к вопросу распада универсальных категорий. В своей предыдущей работе по постанархизму я уже подчеркивал продуктивное взаимодействие и синтез между постструктуралистской и анархистской теориями (см. Ньюман, 2001).
Главным образом я показал, что смещение универсального человеческого субъекта из центра самого порядка опыта имеет для анархизма глубокие последствия: отныне субъективность рассматривается как состоящая из внешних «ассамбляжей» власти и дискурса, и потому четкого концептуального разделения между субъектом, который восстает против власти, и властью, которая в то же время формирует его идентичность и наделяет его желанием, больше не существует.
Так, например, отказ Фуко от «репрессивной гипотезы» и утверждение о том, что власть «продуктивна» (в отношении социальных отношений, эффектов истины и даже в отношении сопротивления ей самой), в корне усложняет революционный нарратив, согласно которому субъект освобождается от внешних оков власти. Широко известно заявление Фуко о том, что «человек, о котором нам рассказывают, которого нас призыва ют освободить, является следствием подчинения куда более глубинного, нежели он сам» (1991: 30).
От анархизма к анархии
На онтологический сдвиг, о котором я говорю, можно взглянуть и с точки зрения того, что хайдеггерианец Райнер Шюрманн называет опытом анархии, который он связывает с идеей Хайдеггера о завершении метафизики и упадке эпохальных принципов. В отличие от метафизического мышления, где действие всегда должно быть определено и выведено из первого принципа, то есть из arché, «“анархия”… всегда означает уменьшение действия такого правила, ослабление его хватки» (1987: 6). Для Шюрманна:
«Анархия, о которой здесь идет речь, — это имя истории, воздействующей на основания действия, истории, чей фундамент проседает и становится очевидно, что принцип целостности как в авторитарном, так и в рациональном значениях — это не более чем пустой звук, лишенный законодательной и нормативной власти» (там же).
Жест демонтажа основания, устранения или оспаривания абсолютной власти arché как форма онтологического антиавторитаризма также характерен для такого теоретического направления как деконструкция, которое обнаруживает и раскрывает исторический и дискурсивный характер принятых нами структур мышления и опыта и тем самым смещает центральность фигуры Человека и того, что Деррида называет «метафизикой присутствия». Шюрманн, однако, утверждает, что опыт анархии, понимаемый как недетерминированность, непредвиденность и событийность, не приводит нас к нигилизму, делая мышление и действие невозможными [46].
Напротив, в освобождении нашего опыта от авторитета руководящих принципов, открывается определенное пространство для недетерминированного свободного мышления и действия. Такие вопросы, как «что нам делать?» и «как нам об этом думать?» приобретают новую остроту и актуальность, когда мы обнаруживаем неопределенность почвы у нас под ногами.
Таким образом, момент онтологической анархии — это опыт свободы и, по сути дела, интенсивной этической рефлексии. И, что особенно важно, этот опыт освобождает действие от своего телоса, от диктата цели и от стратегической рациональности, которая всегда стремится его детерминировать. Так действие становится «анархическим», то есть безосновательным и не предопределенным никакими целями.
Давайте поразмышляем над тем, что такой опыт анархии и, в частности, такое понятие действия без диктата цели может значить для анархизма. Шюрманн тщательно отграничивает свое восприятие анархии от анархизма. Такие ветераны анархизма, как Бакунин, Прудон и Кропоткин пытались «…сместить первоначало, заменить «рациональную власть» (principium) властью авторитета (princeps), то есть таким же метафизическим механизмом. Они хотели заменить один центр другим» (1987: 6).
Другими словами, анархисты XIX века стремились свергнуть политический авторитет, предлагая вместо него другой авторитет — эпистемологический авторитет науки и этический авторитет общества. Более того, на месте государства должна была появиться более рациональная форма социальной организации — безгосударственное общество, относительно которого было предложено множество концепций: коллективистская, общинная, федералистская и, в последнее время, экологическая.
Однако принцип анархии вытеснил бы не только авторитет нынешнего государственного порядка и политической власти, но и эпистемологический авторитет альтернативных, якобы более этичных и рациональных порядков и руководящих принципов, которые могли бы прийти на их замену [47].
Итак, делает ли принцип анархии анархистскую политику невозможной? Превращает ли он анархизм в нигилизм? Анархизм всегда имел несколько неоднозначные взаимоотношения с термином «анархия». Карикатурное изображение анархистов, сеющих хаос и беспорядок как расхожее обыденное понимание «анархии», привело к тому, что анархисты либо дистанцировались от этого слова, либо трансформировали его значение в новый тип порядка, что выражается в слогане Прудона: «Анархия — порядок, правительство — это гражданская война!»
Но если рассматривать понятие анархии просто как бытие «без arché» или без правил и предписаний, тогда анархия не может означать ни беспорядок, ни, как это подразумевал Прудон, спонтанный порядок, тогда она значит уже нечто третье. Понятие анархии, которое я здесь развиваю через восприятие Шюрманна, относит ся именно к идее мышления и действия, освобожденных от телоса и от предопределенных целей:
«“Анархия” здесь не означает ни программы действий, ни ее соприкосновения с “принципом” для диалектического примирения» (1987, 6).
Возможно ли мыслить анархизм уже не как проект, преследующий конкретные цели и определяемый ими же (социальной революцией, которая приведет к безгосударственному обществу), но как форму автономного действия, как способ действовать и мыслить по-анархистски здесь и сейчас, стремясь преобразовать настоящую ситуацию и отношения, в которых некто находится в данный момент, не обязательно рассматривая эти действия и трансформации как что-то, что приведет к великой Социальной революции, и не измеряя их успешность или неудачность с такого ракурса? Такое видение анархизма не как конкретного революционного проекта, а как формы действия и мысли в настоящем моменте гораздо меньше ограничивается достижением традиционной цели — общества без государства.
И проблема здесь не в утопичности такой фантазии. На самом деле определенный утопический импульс имеет центральное значение для всей радикальной политики в том смысле, что он преодолевает границы повседневной реальности. Но каковы гарантии того, что достижение общества без государства в той степени, в какой это вообще возможно, не принесет с собой свои собственные новые ограничения?
Фуко учил нас видеть отношения власти как сосуществующие с любым социальным образованием — неважно, безгосударственным или нет. Вот почему он оставался скептически настроенным по отношению к идее революционного освобождения, утверждая, что даже в пост-освободительном обществе будут продолжать существовать режимы сопротивления и практики свободы [48]. Дальше я еще вернусь к этой теме практик свободы.
Таким образом, вместо того чтобы рассматривать анархизм как отдельный проект, сегодня, на мой взгляд, более продуктивно видеть в нем особый способ мысли и действия, посредством которых отношения господства во всей их специфичности ставятся под сомнение, критикуются и, где это возможно, переворачиваются. Для меня в анархизме центральной является идея автономного мышления и действия, которые трансформируют современные социальные пространства в нынешнем понимании, но в то же время являются условными и неопределенными в том смысле, что не определяются заранее заданными целями и логикой.
Это не означает, что анархизм не обладает собственными этическими принципами или не привержен определенным идеалам. Это значит лишь, что анархизм не должен, а может, уже и не может воспринимать себя как конкретную революционную программу или политическую организацию. Конечно, из этого не следует, что нам надо бы забросить все нынешние проекты, это значит, что некоего Проекта всех проектов не существует.
Не-власть
Возможно, что еще одним способом развития такой версии анархизма и изучения ее политических последствий можно считать «анархеологию» Фуко. «Анархеология» — контаминация, которую Фуко использует для описания собственного методологического подхода к проблеме взаимоотношений между властью, истиной и субъективностью.
В одном из своих многочисленных исследований того, как через наше отношение к режимам истины, в частности, истине о себе как о субъекте, мы связаны с определенными отношениями власти, Фуко утверждает, что основывает собственные наблюдения не на каком-то положении, а на определенной «точке зрения»:
«Это позиция, которая заключается, во-первых, в утверждении того, что никакая власть не может быть само собой разумеющейся, что никакая власть, какой бы она ни была, не является очевидной и неизбежной и, следовательно, никакая власть не имеет под собой оснований восприниматься как должное» (2014: 77).
Иными словами, исходным для Фуко является отказ смотреть на власть как на основанную на чем-то, кроме собственной исторической случайности. Такая точка зрения лишает власть любых притязаний на универсальное право, истину, легитимность или неотвратимость: «…универсально го, непосредственного и очевидного права, которое могло бы везде и всегда поддерживать любые отношения власти, не существует» (там же: 78).
Это перекликается с анархистской чувствительностью, которая особенно присуща философскому анархизму, отвергающему идею о том, что мы должны подчиняться приказам человека, находящегося у власти только потому, что он находится у власти. Иными словами, авторитет не может себя оправдать, исходя лишь из своих собственных оснований.
Действительно, Фуко связывает такую радикальную методологическую точку зрения с анархизмом, но в то же время он проводит между ними достаточно важное различие: если анархизм или, как он говорит, анархия определяется, во-первых, утверждением о том, что вся власть плоха, и, во-вторых, проектом анархического общества, в котором вся власть будет упразднена, то его собственная позиция, напротив, не подразумевает того, что вся власть плоха, но что никакая форма власти не является автоматически допустимой и неотвратимой. Кроме того, его позиция не определяется конкретным проектом и конечной целью. Он формулирует это так:
«Речь идет не о том, чтобы в конце проекта увидеть общество без властных отношений. Речь идет о том, чтобы не-власть или не приятие власти стояли не в конце всех предприятий, а в самом начале работы в форме постановки под вопрос всех способов, какими власть фактически оказывается принимаемой нами» (там же).
Такая позиция, утверждает Фуко, не исключает анархизм, но и не обязательно его предполагает. Здесь мы снова возвращаемся к идее онтологического анархизма, в котором акцент делается не на анархии как кульминации или окончательном вознаграждении за чьи-либо начинания, а на анархии как отправной точке, то есть точке отсчета чьих-либо политических действий. Поэтому, чтобы думать о политике по-анархистски, а именно это я и пытаюсь сделать в этой книге, возможно, нам следует начать с того, что Фуко называет «не-властью», и отталкиваться уже от этого. Такое предложение заставляет задуматься, и о его последствиях я расскажу далее.
Понятую таким образом анархистскую политику сегодня (то, что я называю постанархизмом) можно рассматривать как то, что начинается с неприятия власти. Такая позиция, вместо того чтобы следовать заданному шаблону анархизма, открывает пространство непредвиденности и свободы. Постанархизм — это анархизм, который начинается, но не обязательно заканчивается анархией. Это значит, что он не имеет конкретных идеологических контуров, может принимать различные формы и следовать разным направлениям действий.
Он может сопротивляться и оспаривать конкретные отношения власти в локальных точках интенсивности на основании их не легитимности и насильственности, может работать против определенных институций и институциональных практик через создание альтернативных практик и форм организации. Другими словами, принимая за отправную точку анархию или не-власть, постанархизм как форма автономного мышления и действия может работать сразу на нескольких фронтах, в самых разных условиях, переворачивая и прерывая существующие отношения господства.
Примечания
[46] Не ведет он, согласно Шюрманну, и к тоталитаризму, или «анархии власти», но, напротив, — к ослаблению самого принципа власти (см. Schürmann 1987: 290–1).
[47] Действительно, Сальво Ваккаро утверждает, что анархизм не должен воспринимать себя как философию, базирующуюся на ста бильных онтологических основах, ведь подобный застывший поря док истины вторит суверенному принципу государства. Вместо то го чтобы укореняться в arché, анархизм, в той мере, в какой он неотделим от реальных исторических движений, должен принять более плюралистическую и динамичную онтологию становления (см. Vaccaro 2013). Аналогичной позиции придерживается Хаким Бей (1991), чья концепция онтологической анархии определяет Ха ос и движение в качестве закона всего существующего.
[48] В одном из интервью Фуко говорит: «…такого варианта осво бождения недостаточно для того, чтобы определить все варианты практики свободы, необходимые для того, чтобы освободившийся народ, освободившееся общество и освободившиеся индивиды мог ли определить для себя допустимые и приемлемые формы их суще ствования или политического строя» (2000, c: 282–3).
Источник: syg.ma