Возможно ли происхождение из ничего? Согласно классическим представлениям философии материализма, материя первична и предшествует замыслу, идее. Рассуждая о парадоксах материализма, в которых материя обретает форму сама по себе, а «структура предшествует своим элементам и воспроизводит их, чтобы воспроизвести себя», французский философ Луи Альтюссер открыл «материализм столкновения», не предполагающий цели или причины образования форм, а подразумевающий, что формы — это воплощение произвольных столкновений материи.
Для этого Альтюссер обращается к идее пластичности признаков генотипа в эволюционной теории Дарвина, согласно которой все биологические виды подвержены изменчивости, а естественный отбор определяет вектор преобразований, превращая случайное изменение формы в необходимость, чтобы сохранять жизнеспособность особей. По Альтюссеру именно «изменчивость» — это философская пустота, нулевая точка, из которой могут возникать новые формы.
В социальной сфере также постоянно происходит отбор — кандидатов на работу или лучших студентов на экзамене. Но можно ли сравнить его со случайным отбором в природе, чтобы понять, где в обществе находится философская пустота и воплотятся ли в ней новые социально-политические формы?
Публикуем перевод статьи знаменитой французской философини Катрин Малабу «Куда движется материализм?», в которой она анализирует материализм столкновения и рассказывает, почему социальный отбор не может быть уподоблен естественному, как он ограничивает пластичность вида и поддерживает текущую идеологию, возможно ли отыскать «политическую пустоту», из которой возникнет единение, и может ли «ничто» принять форму человека и стать макиавеллиевским государем.
Куда движется материализм? Это название вторит названию конференции «Куда движется марксизм?», проведенной в 1993 году в Калифорнии, где Деррида представил устную версию «Призраков Маркса». Относительно этого двусмысленного названия Деррида указал на то, что «за вопросом „Куда движется марксизм?“ можно услышать другой — „Умирает ли марксизм?“».
Та же двусмысленность относится к этой главе. Куда сейчас движется материализм? Умирает ли он? Два этих вопроса определенно позволят мне со всей серьезностью обратиться к проблеме марксизма, но с той точки зрения, которую сам марксизм вытеснял — то есть с точки зрения материализма.
Согласно этому нестандартному подходу к марксизму, который отстаивал Альтюссер в своём выдающемся позднем тексте 1982 года «Подпольное течение материализма столкновения», во всех работах Маркса диалектический материализм вытесняет другой, более загадочный вид материализма.
В этом тексте Альтюссер обнаруживает «существование практически неизвестной материалистической традиции в истории философии, <…> материализма столкновения, и, следовательно, случайности и контингентности. Как способ мышления этот материализм абсолютно отличен от множества других видов материализма, включая тот, который часто приписывают Марксу, Энгельсу и Ленину и который, как любой материализм рационалистической традиции, является материализмом необходимости и телеологии — то есть измененной, замаскированной формой идеализма».
Этот вытесненный вид материализма — именно то, что я намереваюсь проанализировать: материализм, который представляет угрозу необходимости, закону, причинности, смыслу — «опасный» материализм, как его определяет Альтюссер, материализм (в этом заключена центральная идея этой статьи), «который исходит из ничто». Я постоянно буду спрашивать: что значит исходить из ничто, и возможно ли это?
Я опять процитирую Альтюссера: «Высвободить материализм столкновения от этой подмены; выявить, если возможно, его импликации и в философии, и в материализме и прояснить его скрытые последствия, даже самые неявные, — такова задача, которую я ставлю перед собой».
Очевидно, эта задача отвечает на первый вопрос: в каком направлении идёт материализм. Куда он движется? Вместе с тем сразу же возникает второй вопрос. Является ли, однако, этот материализм столкновения материализмом, — спрашивает Альтюссер. Разве вскрытие того, что было подавлено, не всегда означает конец того, что было вскрыто? Будет ли материализм развиваться в его контингентной форме, в этом отсутствии, которое она предполагает? Откроет ли перед собой он новые пути или исчезнет?
Помимо прочего, я намерена показать, что два этих вопроса имеют конкретную философскую и политическую актуальность и насущность в наши дни.
При чём здесь Дарвин? Список авторов, которых Альтюссер рассматривает как представителей нового материализма, включает Эпикура, Макиавелли, Спинозу, Гоббса, Руссо, Ницше, Хайдеггера, Деррида, Делёза, Маркса (отчасти) и Дарвина. Но почему Дарвина? Это произвольный выбор? Да, в какой-то степени так и есть. И никак иначе. Только лишь контингентность может быть уместным ответом на контингентность. Так что, почему бы не Дарвин. Но в то же время нет — это не произвольный выбор, конечно.
Столкновение идей Альтюссера и Дарвина, — и тут я ступаю на зыбкую почву, — помогает локализовать проблему, связанную с самим понятием столкновения. Они оба выбрали необычную онтологическую категорию в качестве исходной точки: отсутствие, ничто, — у них одинаковая критика телеологии, одинаковый взгляд на селекцию — а значит, и материализм у них один и тот же.
Дарвин? Материалист? Именно так: по Альтюссеру, Дарвин — материалист столкновения. Позвольте мне озвучить несколько определений, прежде чем я перейду к доказательству.
Материализм указывает на нетрансцендентальныйхарактер формы вообще. Материя есть то, что облекается в форму, непосредственно создавая условия, допускающие саму возможность такого обретения формы. Любая трансцендентальная категория неизбежно оказывается внешней по отношению к тому, что она организует.
По своей природе условие возможности отличается от того, что оно делает возможным. При этом материализм утверждает обратное: он говорит об отсутствии чего-либо внешнего по отношению к самому процессу формообразования. Самоформирование и самоинформирование материи, таким образом, последовательно не трансцендентальны.
Следовательно, есть два возможных варианта объяснения и понимания происхождение этой имманентнойдинамики. Диалектическая телеология — это первый, общеизвестный вариант. Образование форм — форм жизни, мышления, общества — управляется внутренним напряжением по отношению к телосу, который обязательно ориентирует и определяет всякое саморазвитие. Именно это телеологическое видение материализма, которое долгое время преобладало, отвергает здесь Альтюссер.
Такой материализм исходит из того, что «все совершается заранее; структура предшествует своим элементам и воспроизводит их, чтобы воспроизвести себя». В действительности такая позиция сводится к трансцендентальной аналитике, и именно поэтому Альтюссер, возможно, отождествляет её с идеализмом.
Материализм столкновения, напротив, не предполагает никакого телоса, замысла или причины — такой материализм утверждает, вопреки всякой трансцендентальной структуре, «не-предшествование значения». С этой другой точки зрения, формы — это столкновения, которые обрели форму. Альтюссер постоянно подчеркивает этот аспект «принятия формы» или «кристаллизации»: речь идет о «взаимной кристаллизации элементов (по аналогии с процессом кристаллизации льда)». Здесь ключ к формированию формы следует искать в том, что «придает форму» последствиям столкновения. Столкновение должно «принять форму» и «схватиться», чтобы удержаться и стать неизбежным.
Именно в попытке объяснить этот весьма специфический вид пластичности — кристаллизацию и обретение формы из ничто — Альтюссер и обращается к Дарвину. «Вместо того чтобы мыслить случайность как модальностьнеобходимости, <…> мы должны думать о необходимости как о столкновении непредвиденных обстоятельств в их становлении необходимыми.
Это позволяет нам увидеть, что не только мир жизни (как недавно осознали биологи, которым следовало бы знать своего Дарвина наизусть), но и мир истории в определенные удачные моменты загустевает, схватывая элементы, объединенные в столкновении, которое может теперь принять очертания некой фигуры: такого-то вида, индивидуума или народа».
Именно это взаимоперетекание между видом, индивидуумом и человечеством я и буду рассматривать здесь. Эквивалентны ли эти формы? Можем ли мы переносить процессы, протекающие в природе, на уровень политики и истории?
Сначала я задамся вопросом, в какой степени социальный отбор может быть уподоблен естественному отбору в том смысле, в каком его разрабатывает Дарвин. Затем проанализирую различие между природным и социально-политическим столкновением. В этой связи меня интересует, где в обществе локализуется пустота, ничто, нулевая точка, из которой может возникнуть форма?
В заключении я попытаюсь поместить новую критику капитализма, предложенную Альтюссером, в текущий контекст, в свете ее значимости для философии нашей эпохи и тенденции к возникновению новых трактовок материализма, наблюдаемой в последнее время.

Слово «пластичность», упомянутое чуть выше для описания кристаллизации формы в материализме столкновения, выбрано мной не случайно. Внимательное прочтение «Происхождения видов» показывает, что пластичность составляет один из центральных мотивов мысли Дарвина. В самом деле, фактически пластичность занимает центральное место в теории эволюции. Что Дарвин говорит о том, каким образом оформляется «форма»?
Идея пластичности позволяет выявить — как указывает Дарвин в начале своей книги — фундаментальную связь между изменчивостью особей внутри одного и того же вида и естественным отбором среди этих самых особей.
Начнем с изменчивости. Не существует видов, ей не подверженных. Если обратиться к терминологии Альтюссера, изменчивость — это «пустота», или «пустая точка», или «отсутствие», из которого могут возникать формы. Наиболее важная характеристика вида — его изменяемость; огромное количество потенциальных морфологических преобразований, наблюдаемых в структуре организма, обусловлено его склонностью к изменению форм.
В противоположность широко распространенному неверному толкованию Дарвина, вид никогда не являет собой нечто ригидное или неизменное. Филиация иллюстрирует высокую степень пластичности вида. Что же касается наследования, создается впечатление, что «вся организация будто бы стала пластичной».
В начале пятой главы Дарвин пишет: «Репродуктивная система в высшей степени восприимчива к изменениям условий жизни; я объясняю изменчивость, или пластичность, наблюдаемую у потомства, главным образом функциональным нарушением этой системы на уровне родителей».
Будучи свойством изменчивости, пластичность указывает на квази-бесконечную возможность изменения структуры, санкционированную самой живой структурой. Эта квазибесконечность как раз и составляет ту открытость или отсутствие предопределенности, которое делает столкновение возможным.
Форма «образуется», когда изменчивость сталкивается с естественным отбором. Естественный отбор превращает случайность первой в необходимость. «Над всеми этими причинами изменения преобладающей силой было, по-видимому, кумулирующее действие отбора [в рамках экономии изменяемости и изменчивости]».
Поэтому нужно понимать, что отбор направляет изменчивость и регулирует образование форм. Отбор обеспечивает направленное образование формы, которое подчиняется естественным требованиям жизнеспособности, согласованности и автономии индивидов. Таким образом, состояние пластичности — или, иначе говоря, двигателя самой эволюции — опирается на понимание пластичности, с одной стороны, как подвижности структур, а с другой — как отбора жизнеспособных, устойчивых форм, допускающих их наследование или воспроизводство. Материализм столкновения, таким образом, подразумевает естественный процесс, обеспечивающий постоянный отбор и кристаллизацию изменений.
Отношение между изменением и отбором поднимает фундаментальный философский вопрос, который я хотела бы здесь задать Альтюссеру. В природе отношение между изменением и отбором не является, собственно говоря, запланированным. Как ни парадоксально, естественный отбор предстает у Дарвина в виде механизма, чуждого всякому селективному замыслу. Лучший тот, кто наиболее приспособлен, но приспособленность при этом не определяется исходя из каких-либо суждений о полезности или реальной телеологии.
Естественному отбору чужда телеология, он лишен всякого замысла. Перед нами, опять-таки, столкновение. Поскольку это не более чем механизм — понятие, которое уже по определению наводит на мысль о слепом движении, противоположном или обратном свободе, — естественный отбор парадоксальным образом не поддается прогнозированию и несет в себе контуры форм, никогда не выбираемых заранее, равно как и будущих различий.
Впрочем, мы снова столкнулись с центральной проблемой; кажется, что это естественное образование форм невозможно перенести в социальное измерения без искажений или погрешностей. Нам известны заблуждения «социального дарвинизма», который является всем, чем угодно, но только не философией пластичности, в той мере, в какой он сводит борьбу сильного против слабого к простой теории.
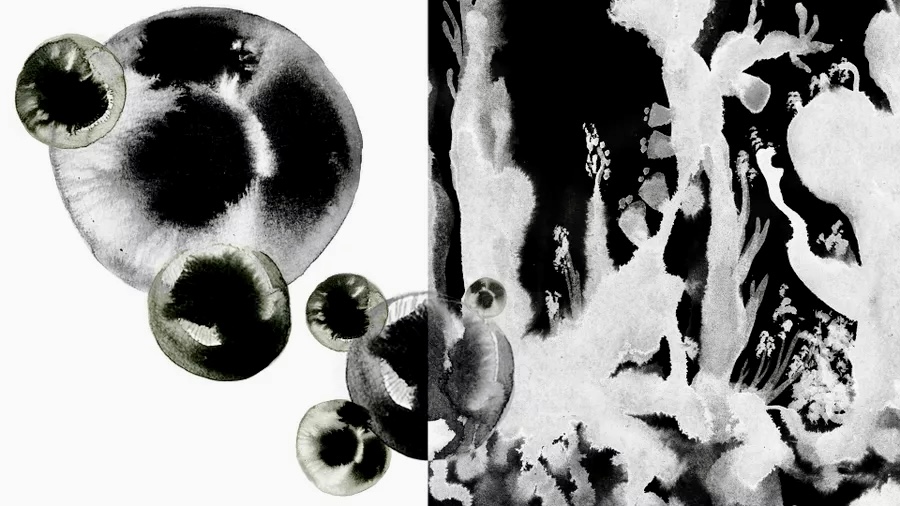
На протяжении многих лет, особенно во Франции, естественный отбор привычно понимался всего лишь как процесс уничтожения самых слабых, а жизнь — как беспощадная борьба за власть во всех ее проявлениях. Возможно, мы смешиваем дарвинизм и мальтузианство, трактуя естественный отбор как простую динамику, поддающуюся количественному измерению и определяемую соотношением числа особей в популяции и доступностью ресурсов, несмотря на недвусмысленные предостережения, озвученные в этой связи в «Происхождении видов». Эта интерпретация полностью расходится с идеями Дарвина и опять же является ошибочной.
Тем не менее если такое заблуждение возможно, то не потому ли, что материализм столкновения кажется социально и политически нежизнеспособным, поскольку он может работать только на уровне атомов или форм жизни, а не когда речь идет об отдельных людях или обществах? Автоматизм и нетелеологичность естественного отбора, по-видимому, окончательно утрачиваются в отборе социальном.
Если исходить из логики экзаменов, конкурсов или профессионального отбора вообще, равно как и ранжирования кандидатов по степени их пригодности, компетенций или конкретных технических способностей, почему создается впечатление, что отбор лишен пластичности, то есть подвижности, с одной стороны, и какого-либо предопределенного селективного замысла — с другой?
Отчего в большинстве случаев социальный отбор дает ощущение ожидаемого или согласованного процесса, простой логики покорности и воспроизводства, тогда как для естественного отбора характерна непредсказуемая открытость перед лицом возможности?
Разве материализм столкновения не обречен всегда быть вытесненным материализмом телеологии, первичности замысла, предпосылок и предопределений?
Состояние пластичности, описанное Дарвином, требует особой артикуляции тождества и различия: тождества, поскольку прошедшие отбор индивиды способны воспроизводиться и, следовательно, вписывать себя в стабильность определяемого типа; различия — потому что это тождество не является жестким и обусловлено именно изменчивостью. Тождество вида — это тождество, проистекающее из дифференциации структур и типов.
Однако в природе существует автоматическое и слепое равновесие между тождеством и различием, в то время как в социальном контексте, по-видимому, тождество всегда преобладает над различием, и природное изящество равновесия нарушается. Понятие выбора, согласно явному парадоксу, опять же полностью непригодно для естественного отбора. В природе отбор происходит бессознательно.
Как только отбор становится намерением, что предполагает наличие заранее определенных критериев, на этот раз явно запрограммированных, как только поступательная динамика утрачивает естественность или спонтанность, условие пластичности оказывается под угрозой или [даже] вовсе исключается. И снова мы видим, что материализм — это вытеснение другого.
В природе наиболее приспособленным не может стать тот, кто выжил потому, что случайно попал в благоприятную среду. Речь идет о простой «подстройке реакций» к окружающей среде, перефразируя это в терминах Франсуа Жакоба. Разумеется, адаптация, согласованность между окружающей средой и изменчивостью, может быть непредсказуемой. Не может быть превосходства «в себе».
Конечно, Дарвин описывал естественный отбор как процесс совершенствования или «развития», но эти представления о «превосходстве» по-прежнему не предполагают замысла. Дарвин очень сдержанно высказывался о «прогрессе»; сам он никогда не хотел трактовать свою теорию как теорию «эволюции» — термин коварный, поскольку он наводит на мысль о линейном прогрессе по аналогии с законом усложнения, предложенным Ламарком. Усовершенствование, о котором говорит Дарвин, не подчинено конечной цели.
Своей формой и ее постоянством во времени выжившие в каком-то смысле обязаны исчезновению менее приспособленных, тому факту, что изжитые формы переходят в неорганическое состояние. По словам Кангилема, «смерть — это слепой скульптор живых форм». Поэтому неодушевленное становится, в негативном ключе, условием осмысленности или программой живого.
Можно ли тогда считать, что дарвинизм как таковой заканчивается там, где начинается сфера общества и культуры, и что всякая социальная предопределенность ему изменяет, то есть в буквальном смысле его искажает? В таком случае отбор был бы ничем иным, как процессом воспроизводства тождественного.
Разве мы не можем несмотря ни на что восстановить в правах пластичность социального бытия и открыть тем самым все богатство изменчивости и отклонений структуры, лежащей в основе культуры? Разве нельзя мыслить социальное и политическое равновесие как соотношение между изменчивостью и отбором? Что сегодня мы могли бы почерпнуть у Дарвина в этом отношении?
И как быть с Альтюссером? По его мнению, пластичность того же порядка, что и биологическая, должна преобладать в социальном и политическом планах. В этом и заключается глубокий смысл его нового материализма. Давайте вернемся к отдельным людям и народам.
Альтюссер приходит к вопросу о том, как личность «принимает форму», когда он обращается к «Государю» Макиавелли. Перед нами политическая версия материализма столкновения на уровне личности: «Макиавелли <…> приходит к идее о том, что единение будет достигнуто, если на сцену выйдет некий безымянный человек. <…> Таким образом, кости брошены на сукно игрового стола, сама поверхность которого пуста».
Итак, мы имеем здесь эту пустоту, это отсутствие смысла, телоса или предопределения. Форма возникнет в результате столкновения между удачей — то есть случайностью — и добродетелью государя — то есть его способностью выбирать наилучшие возможности из тех, что предлагает удача, но выбор делается не на основе замысла. Дело обстоит так, будто существует естественное пластичное равновесие между львом и лисой, удачей и добродетелью.
Следовательно, государь внутренне подчинен изменчивой логике этого иного случайного столкновения — лисы, с одной стороны, и льва и человека — с другой. Это столкновение может не произойти, но с тем же успехом может и состояться.
Оно должно продлиться достаточно долго, чтобы фигура государя «прижилась» среди людей — говоря «прижилась», я имею в виду, что она должна обрести форму, вследствие чего государь институционально воспитывает в людях страх перед собой, который он преподносит как благо; а если возможно, он добивается и того, чтобы в итоге и сам он воспринимался как благо, но с той необходимой оговоркой, что ему никогда нельзя забывать о способности олицетворять зло, если будет возникнет такая потребность.
Но как может внутри социального существовать такой безымянный человек, способный возникнуть из ничто, из такого безымянного места, из такого нетелеологичного образования форм?
Проблема становится еще более актуальной, когда Альтюссер обращается к народу или общине сквозь призму философии Руссо. Специфический политический вопрос, который поднимает Руссо, заключается в следующем: в той мере, в коей люди были «вынуждены вступать в столкновения», находясь в естественном состоянии, то есть были силой заброшены в социальное измерение, — возможно ли преобразовать это навязанное и беззаконное положение вещей в законное?
Иными словами, возможно ли воссоздать условия для случайной и нетелеологичной формы столкновения, когда оно уже произошло? чтобы каким-то образом ретроспективно сделать его пластичным? «чтобы выхолостить нелегитимную (господствующую) форму, превратив ее в форму законную?». Это, по мнению Альтюссера, главная проблема общественного договора.
«Самая глубокая мысль у Руссо, несомненно, раскрыта и снова сокрыта здесь, в этом видении любой возможной исторической теории, в которой случайность необходимости постулируется как следствие необходимости случайности, образуя тревожную пару понятий, которые, тем не менее, должны быть приняты во внимание».
Опять же, где пустота, пустой квадрат, отталкиваясь от которого мы можем начать такое смещение? «Именно в политической пустоте должно произойти это столкновение», — пишет Альтюссер. Но где же она и чем она может быть?
Кажется, что в наших обществах нет пустоты. Давайте взглянем на процесс социального отбора — понимаемый, например, как ранжирование и выбор способностей или особых навыков в рамках экзаменов, конкурсов или собеседований по набору персонала, — и это сразу же предстает как антоним пластичного состояния, руководящего экономией естественного отбора и его неозначающим смыслом.
Список заданий, рабочие инструкции, протокол экзаменов всегда предшествуют реальному столкновению с изменчивостью и разнообразием кандидатов, тем самым препятствуя тому, чтобы различия возникали сами по себе. На самом деле, такой отбор не может включать производство различий, а наоборот, подразумевает лишь бесконечное воспроизводство критериев, по которым осуществляется отбор.
Отбираются не самые лучшие и даже не те, кто проявляет умопомрачительную способность к адаптации, а те, кто наиболее отвечает требованиям. Соответствие имеет приоритет над ценностью. Таким образом, гарантируя воспроизводство и возобновляемость тождественного, социальный отбор обеспечивает возвращение социологической тяжести, и никогда — появление уникальности из ничего.
Маркс, в частности в «Критике гегелевской философии права», был первым мыслителем, который разоблачил консервативный характер социального отбора навыков. На примере «функционеров» Маркс показывает, что от них не требуется никакой особой компетентности сверх той, что способствует поддержанию установленного порядка. Эти «индивиды не предназначены к выполнению этих функций своей природой, личностью и рождением, — пишет Гегель в своей „Философии права“. — Объективным моментом для их предназначения к этому служит знание и доказательство их пригодности».
Однако эти способности, говорит Маркс, не являются способностями; для того, чтобы стать функционером, не требуется никакая «техника», никакая особая компетентность, кроме таланта к повиновению, почитанию государства и, следовательно, конформизму.
Другой вектор критики социального отбора будет выведен в философии Пьера Бурдьё, особенно в знаменитом тексте «Наследники», написанным им в соавторстве с Жан-Клодом Пассроном в 1964 году и касающемся классовой траектории студентов. Нормы отбора, всегда определяемые заранее, составляют подлинную программу и опять-таки отражают очевидные ценности покорности, ценности господствующего класса, принятые как критерии «культурной легитимности».
Главная характеристика этой легитимности заключается в том, что она представляет собой скрытую социальную силу. Такова функция общественного воспроизводства в сфере воспроизводства культурного, основанная на «привилегии» — по определению наиболее предвзятом селективном критерии из всех возможных.
Социальный отбор имеет своей целью воспроизводство текущего порядка, привилегий или господствующей идеологии. Никто никогда не выбирает, например, исходя из способности к действию или политической борьбе, но всегда — исходя из способностей, согласующихся с заведенным порядком.
Кого из нас никогда не шокировала несправедливость этого ранжирования, этого отсева, пройти который могут только люди наиболее уступчивые и никогда те, кто демонстрирует редкостную исключительность, и который, в конечном счете, выталкивает наверх такое множество посредственных, некомпетентных и ограниченных людей?
У кого никогда не возникало ощущения, что социальный отбор представляет собой, по сути, программу, а не возможность, и что морфологические преобразования общества являют собой, по большому счету, всего лишь средства консервации?
Тогда возникает вопрос, фатальна ли судьба социального отбора или же в политической сфере он может каким-то образом обрести природное пластичное состояние. Как мы можем поддерживать в рамках общества и культуры равновесие между изменчивостью и отбором, гарантировать различию будущее, перспективу непредсказуемых форм?
Альтюссер в действительности прекрасно осознает эти трудности: расхождение между столкновением в онтологическом или естественном порядке и столкновением в политической сфере. Это предполагало только одно решение: понимать, что критерии не предопределяют сам отбор. В контексте общества это означало бы восстановление состояния пластичности.
Суть проблемы всегда заключается в том, чтобы знать, как не определять различие заранее, поскольку в рамках данного порядка отбор всегда является актом, несущим в себе ценностную установку и, следовательно, создающим иерархии и нормы. Как можно одновременно полагать оценочный характер, неизбежный для всякого социального отбора, и возможность его недетерминированности или свободы?
Единственный философ, который явно сформулировал этот вопрос, — это Ницше, и именно поэтому Альтюссер обращается к нему после экскурса к Макиавелли и Руссо. Несомненно, он не задается целью порицать отбор, ибо тот неизбежен и имеет онтологическую основу: становление само по себе есть не что иное, как отбор. Не нужно забывать следующее высказывание Гераклита: «Лучшие люди одно предпочитают всему: вечную славу — бренным вещам, а большинство обжирается как скоты».
Становление настолько богато различиями, что оно может иметь место только при условии возможности выбора. Задача философии по существу селективная, поскольку она выбирает различия, обнажаемые потоком жизни, ранжирует их и интерпретирует. В книге «Ecce Homo. Как становятся сами собою» Ницше спрашивает: «Что же, в сущности, позволяет нам распознать того, кто добился успеха?» Или, в иной трактовке, «того, кто обзавелся формой»?

В «Различии и повторении» Делёз, на которого также ссылается Альтюссер, показывает, что отбор создает свои собственные критерии по мере того, как он совершается. В силу этого он становится чувствительным к значимости и жизнеспособности различий. Различие будет отбираться по мере его раскрытия, демонстрируя свою способность к возвращению, то есть возможность порождения наследия или традиции. Так, например, «хорошая» музыка порождает традицию интерпретации, а превосходный текст — поколения читателей. Следовательно, отбор должен происходить после возникновения или проявления различий таким же образом, как изменчивость предшествует естественному отбору.
Альтюссер прекрасно понимает, что «политическая пустота», в которой должно «случиться столкновение», — та самая политическая пустота, которая также, по его словам, представляет собой «философскую пустоту», — может и не существовать; если бы мы могли быть уверены в ее существовании, если бы мы могли знать наперед, — столкновение никогда [бы] не состоялось, и мы снова скатились бы в телеологию.
Внутренняя логика этой пустоты отсутствия, этой точки возможности, за которой открывается горизонт, несущий в себе обещание справедливости, равенства и законности, не может быть ни детерменирована, ни так же слепо и автоматически регламентирована — как сама природа. Её возможность должна быть реализована. В этом и заключается та философская задача, которая возникает по мере того, как этот вытесненный материализм приходит к своему завершению.
По словам Альтюссера, государь Макиавелли — это «человек из ничто, который возник из ничто, из непередаваемого места». Найти это непередаваемое место и придать ему форму — вот что мы должны сделать. «Непередаваемый» — это перевод французского inassignable, но я не уверена, что это слово имеет одинаковое значение в обоих языках. По-французски это означает нечто неопределенное и бесконечное. По-английски это означает неспособность быть отторгнутым или переданным другому: свойство неотчуждаемости.
Но я также обнаружила и другой перевод: непередаваемый как не подлежащий использованию по предназначению или зарезервированный для определенной задачи. Английская семантика, в таком случае, гораздо интереснее, потому что она открывает пространство для интерпретации идеи долженствующего, чего-то такого, что нельзя приписать кому-то другому, что нельзя отрицать, не разрушив при этом субъект, что никому не принадлежит и не имеет конечного назначения.
Мы можем назвать это место, непередаваемое место, собственно анонимным. Лишенным качеств, привилегий, наследия, традиций. Люди из пустоты, люди ценности. Оттуда и только оттуда могут возникать новые формы — самобытные, непредсказуемые, невиданные, самовоспроизводящиеся, — также говорит Альтюссер.
Прежде чем задать несколько вопросов об этом «месте», позвольте мне напомнить об изменениях, вызванных этим новым материализмом в прочтении Альтюссером Маркса и, следовательно, в его критике капитализма. В соответствии с этим новым материализмом, пишет Альтюссер, «мышление Маркса было разорвано между непредсказуемостью Столкновения и неотвратимостью Революции». Отсюда все его оговорки, запреты и философские прегрешения.
Суммируя сказанное выше, «в бесчисленных фрагментах Маркс <…> объясняет, что капиталистический способ производства возник из „столкновения“ между „обладателями денег“ и пролетариатом, лишенным всего, кроме своей рабочей силы. Так уж вышло, что это столкновение состоялось и „прижилось“, что означает, что оно <…> было длительным и стало свершившимся фактом, <…> породив устоявшиеся отношения и законы <…>: законы развития капиталистического способа производства…».
Итак, первоначально Маркс анализирует устройство капитализма как столкновение, исходящее из пластичной пустоты, из пустотности пролетариата — его фундаментальной нищеты. Но вместо того, чтобы оставаться верными этой трактовке — когда способ производства видится как форма, образующаяся из ничего, объединяя различные элементы и постепенно становясь необходимой, — Маркс и Энгельс перевернули этот процесс с ног на голову.
В конце концов они заявили, что различные элементы, составляющие это столкновение, «были изначально обречены соединиться, гармонизироваться друг с другом и взаимно порождать друг друга как собственные цели, условия и/или дополнения». Они подменяют анализ производства пролетариата анализом его воспроизводства.
Когда Маркс и Энгельс говорят, что пролетариат — это «продукт крупной промышленности», они совершают серьезную ошибку, замыкаясь в логике свершившегося факта воспроизводства пролетариата в широком масштабе вместо того, чтобы избрать алеаторную логику «столкновения», которая производит (а не воспроизводит) в качестве пролетариата эту массу обнищавших, обездоленных людей как один из элементов, образующих способ производства. Попутно Маркс и Энгельс переходят от первой концепции способа производства, концепции историко-алеаторной, ко второй — эссенциалистской и философской.
Итак, задача снова состоит в том, чтобы освободить вытесненный философский статус обнищания, экспроприации, обездоленности, и отсутствия как источник любого формирующего процесса. Нищета, обездоленность и эксплуатация являются отправными точками философского мышления не потому, что они могли бы представлять собой объекты или темы, интересные для философов, а потому, что и практика, и теория черпают свою энергию, силу своего динамизма в изначальном отсутствии детерминированного бытия. По словам Альтюссера, перед нами все тот же изначальный «девственный лес».
«Подпольное течение материализма столкновения» — это, конечно, поразительно проницательный текст. Попытка высветить точку пустоты, отсутствия и обездоленности лежит в основе наиболее важных современных философских течений, которые определяют себя как материализм. Например, спекулятивный реализм в своих поисках некорреляционистского способа мышления развивает понятие абсолюта, который не был бы «нашим», оставался бы к нам безразличным.
Открытие непередаваемого места в глобальном мире, где каждому отведено свое место, становится самой насущной этической и политической задачей. Проблема состоит в том, чтобы добиться этого, не представляя его как трансцендентальную структуру. Это то, с чем я борюсь сама, пытаясь освободить мою пластичность от любой символической власти и настойчиво отказывать ей в собственной суверенности.
Все это чрезвычайно зыбко; волны неустанно и безостановочно захлестывают «открытые поля» уникальности, неожиданности, случайного отбора, соответствия критериям, способности приветствовать новые формы, не предвосхищая их. Волны обладания, присвоения и воспроизводства неустанно и безостановочно смывают изначальную утрату онтологического многообразия.
Каково будущее материализма? Этот вопрос никогда не потеряет своей двусмысленности. Но, как говорит Дарвин, когда размышляешь над изменчивой природой видов, иногда создается впечатление, что «весь организм будто обретает пластичность». Поживём — увидим.
Перевод: Лана Узарашвили
Источник: Discours








































