В марте 1948 года одна французская пьеса после премьеры на Бродвее стала небольшой сенсацией: вызвавший бурную полемику, спектакль шел в этой версии девять месяцев подряд. Некоторые назвали эту драму «антиамериканской», а в нескольких городах — самый громкий случай был в Чикаго — ее запретила цензура. Пьеса была написана в Париже, но действие разворачивалось на юге США.
В центре сюжета — чернокожий мужчина, обвиненный в преступлении, которого не совершал, а также назревающее с минуты на минуту линчевание; именно эти темы станут средоточием исследований Жирара, но в данном случае их раскрыл другой влиятельный мыслитель, Жан-Поль Сартр:
Негр: На улицах толпы народу. Все собрались — и молодые и старые. Настоящая демонстрация.
Лиззи: Что это значит?
Негр: Это значит, я буду гонять по городу, покуда меня не схватят. Когда белые, даже незнакомые, сговариваются между собой — значит, негру грозит смерть.
Женщина — проститутка, приехавшая из Нью-Йорка, а мужчина (в пьесе он зовется просто «Негр») умоляет его за нее заступиться. В южном обществе они оба — посторонние. Здесь предвосхищен особый акцент на социальных различиях, которым отличаются исследования Жирара. «Увидеть негра — всегда к несчастью. Негр — это сущий дьявол», — говорит сын сенатора, пытающийся оговорить чернокожего героя.
Козел отпущения начинает играть тотемическую роль — не обычного смертного человека, который чем-то провинился, а сверхъестественного предвестника близкой беды и даже дьявола собственной персоной; итак, предлогом для разворачивающихся в драме событий становится жертва.
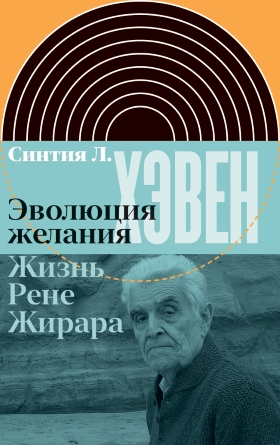
В каком-то смысле Сартр кусал кормившую его руку. С января по май 1945 года он по приглашению Госдепартамента США совершил турне по Америке, а параллельно писал материалы для газеты движения Сопротивления «Combat», главным редактором которой был Камю, и для ведущей парижской «Le Figaro».
Но у Сартра вызвала омерзение нетерпимость, которую он наблюдал на американском Юге: например, двоих чернокожих военнослужащих отказались обслужить в вагоне-ресторане.
Спустя месяц после возвращения он опубликовал в «Фигаро» статью «Что я узнал о „черной проблеме”». Эта тема занимала его и раньше, после прочтения Фолкнера. Впечатления от американской поездки и книг Фолкнера выкристаллизовались в пьесу «Почтительная потаскушка».
В развязке пьесы Лиззи спрашивает: «Люди идут, идут с фонарями, с собаками. Что это — факельное шествие?» Жирар был внимательным читателем Сартра, а этот писатель-экзистенциалист более старшего поколения, очевидно, двигался параллельным курсом, во многом размышляя о том же антураже. У обоих мыслителей была одна отправная точка — они шли от Фолкнера, лауреата Нобелевской премии. Но, как ни поразительно, Жирар и Сартр сделают из проделанного пути противоположные выводы.
* * *
«Вонь линчевания прямо бьет в нос», — сказал мне Жирар, мимоходом упомянув о творчестве Фолкнера. Странная фраза — сказано резко, а в интонации сквозило нетипично сильное презрение. Жирар тогда не стал вдаваться в подробности, но один его друг сказал мне, что год, проведенный Жираром в самом сердце Юга США в период 1952–1953 годов, когда действовали законы о расовой сегрегации, представлял собой год в Чистилище.
Некоторые утверждают, что жираровская теория «механизма козла отпущения» родилась на американском Юге, но они заходят слишком далеко, и их предположение недооценивает роль самого Жирара; между тем этот гениальный интуит объединил широкий спектр наблюдений и исследований в авторитетную теорию об уделе человечества и его последствиях для нашего прошлого, настоящего и будущего. Эти идеи будут сформулированы лишь намного позже — уже после того, как «Ложь романтизма и правда романа» оставит свой след в литературоведении.
«Я прожил один год в Северной Каролине — то был не наихудший регион Юга, но все же с полной сегрегацией и весьма консервативный», — заметил впоследствии Жирар. Однако в некоторых аспектах Северная Каролина не была Чистилищем: Жирара очаровала красота местной природы — пышная растительность, которая, возможно, лишь усиливала когнитивный диссонанс. Жирару не свойственно включать в свои тексты лирические описания природы, так что его строки об американском Юге резко выделяются на фоне его обычного стиля.
Он признавался, что новое место работы приносило ему больше удовольствия, чем Индиана; но удовольствие это, видимо, было чисто чувственное, поскольку он вспоминал «местность с глинистыми почвами в окружении сосен, в сердце гигантской области, где выращивали табак, со множеством больших складов, где бережно раскладывали для просушки огромные светлые листья».
Этот период, когда я впервые надолго поселился на юге США, оставил у меня очень яркие воспоминания: необычайное буйство цветения весной, пригороды, чем-то схожие с райскими кущами, чистенькие, словно новехонькие игрушки, дома, угнездившиеся посреди пестрых букетов и окруженные деревьями, которые растут здесь сотню лет; обширные сады на задворках домов; в гостиной — огромное панорамное окно с видом на кустарники оттенка морской волны… Ты словно бы в научно-фантастическом спускаемом аппарате ныряешь вдруг в ослепительный мир, где есть все соблазны нашего мира, но он более яркий и более ухоженный.
А вот о межрасовых отношениях он пишет отчасти обиняками и в более «литературном» ключе:
Однако едва наступило лето, нестерпимый зной навалился, как проклятие, вызывая мучительные ощущения, которые воспринимались не только как чисто физиологическое явление, и в своих мыслях я не мог отделить эти мучения от болезни расизма, всегда витавшей над этой страной и все еще остававшейся такой, какой ее описывали великие писатели Юга, особенно Фолкнер.
Я не одобряю склонность некоторых критиков сводить все к чисто литературным конструкциям: эта литература была великой, потому что уловила смысл, существовавший на самом деле, неотступно пропитавший собой все именно потому, что большинство людей отказывалось с этим бороться. Помню скандал, когда Конгресс так и не смог ратифицировать закон, который автоматически перешел бы на федеральный уровень, — закон о самых надежных гарантиях реальной судебной ответственности за все связанное с линчеваниями.
Если бы Жирар приехал в Северную Каролину поездом, то увидел бы на вокзале раздельные залы ожидания и уборные: для белых свои, для черных свои. Обнаружил бы, что все окружающие изъясняются с мягким певучим южным выговором, а у афроамериканцев — еще более диковинные, на его слух, интонации и густо сдобренный фразеологизмами и сленгом лексикон.
Продавец автосалона из Индианы, остерегавший от «смешения рас», должен был вспомниться Жирару с новой пронзительностью и почти без усмешки — в этих краях расовое кровосмешение не только воспрещалось (как и во многих других регионах США), но и наводило ужас. Жирару, верно, пришлось не только узнать о «законах Джима Кроу», но и поневоле с ними считаться. Их действие распространялось широко, почти на все общественные места.
Как же быстро все исчезает в набежавших волнах. История линчеваний рассказывалась многажды, но не рассказана до сих пор; это явление хорошо подтверждено документальными свидетельствами, но те, кто родился уже после эпохи борьбы за гражданские права, обычно знают о нем в лучшем случае в общих чертах. Многие ли сегодня помнят о судах Линча? Насилие, скреплявшее собой общественный строй, порой выплескивалось вовне, чтобы обнажить истину, таившуюся за знакомым Жирару внешним антуражем — южной учтивостью и уютной милотой.
Так было, например, в 1930 году при двойном линчевании в Марионе, штат Индиана, в каких-то шестидесяти милях от Блумингтона, за семнадцать лет до приезда Жирара в эти края. Иностранцы были вынуждены привыкать к тому, что в американской истории есть кровавая резаная рана — незаживающая, упрятанная за невозможными здесь разговорами, скрытая завесой молчания, которое затянулось на целую вечность.
В Дареме черные были повсюду, но в жизни Университета Дьюка не участвовали. В 1952 году там не было чернокожих ни среди студентов, ни среди преподавателей, ни среди членов попечительского совета, ни среди сотрудников администрации — были только чернокожие горничные, дворники, повара и прочий обслуживающий персонал. На стадионе Уоллеса Уэйда в кампусе Университета Дьюка имелись отдельные туалеты и секция трибун для «цветных».
Если вы обедали в профессорском клубе, сотрапезники у вас были белые, а черные убирали со стола, жарили картошку, варили бобы и провожали вас к забронированному столику.
В Университете Дьюка барьеры сегрегации уничтожили позже, чем в большинстве других лучших университетов страны. Впервые система зашаталась в 1948 году — во времена, когда типичным явлением все еще было движение сторонников превосходства белой расы, плодившееся как зараза, а политики обычно либо потворствовали этому движению, либо отмалчивались. Студенты богословской школы Университета Дьюка направили администрации петицию, требуя расширить критерии приема в университет, но первого чернокожего аспиранта сюда зачислили лишь спустя десять с лишним лет, а первых черных студентов — лишь спустя пятнадцать.
Почему Жирар не говорил и не писал об этом, за вычетом нескольких неопубликованных абзацев? Для контраста расскажу о Симоне Вейль, прожившей каких-то четыре месяца в квартире родных в Верхнем Ист-Сайде на Риверсайд-драйв, где белый Нью-Йорк плавно переходил в черный Гарлем. Вейль написала своему другу, доктору Луи Берше: «Я исследую Гарлем. Каждое воскресенье хожу в баптистскую церковь в Гарлеме, где, кроме меня, нет белых».
Она живо интересовалась религиозными бдениями, проповедями с музыкой в стиле госпел, спиричуэлс — духовными гимнами, а также каждый день ходила к мессе в гарлемскую церковь Тела Христова.
Берше утверждал: «Если бы она осталась в Америке, то наверняка стала бы черной»; он, видимо, не понимал, что расовая принадлежность не добровольный клуб, куда допускали бы всех просто испытывающих к этой расе товарищеские чувства. Жирар, напротив, в основном молчал о существовавшем в Америке межрасовом барьере — точно так же, как и о жизни оккупированной Франции. Однажды Жирар признался: «Этот опыт приобрел для меня первостепенную важность. Но это уже другая история».
Однако в подробности этой истории он никогда не вдавался, разве что, конечно, косвенно, в серии книг, которая началась с «Насилия и священного» и продолжилась такими работами, как «Вещи, сокрытые от создания мира», «Козел отпущения», «Я вижу Сатану, падающего, как молния» и другие. Чем объясняется это молчание? Возможная разгадка содержится в предположении одного друга Жирара.
Источник: Горький








































