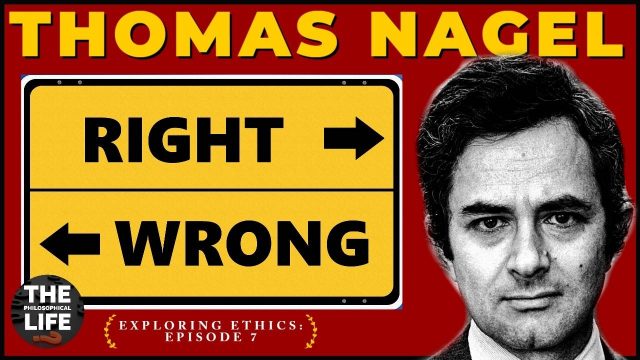Известный американский философ Томас Нагель доказывает, что поддержанная естественными науками утилитаристская мораль не может быть основанием для морального прогресса.
Философ Стюарт Хэмпшир во время Второй Мировой войны служил в британской военной разведке. Когда мы были коллегами в Принстоне, он рассказал мне о следующем инциденте, который произошел, должно быть, вскоре после высадки в Нормандии. Французское Сопротивление захватило важного коллаборациониста, который, как считалось, обладал информацией, полезной для союзников.
Хэмпшира послали допросить его. Когда он прибыл, глава отряда Сопротивления сказал Хэмпширу, что он может допрашивать этого человека, но когда он закончит, они его расстреляют: так они всегда поступали с подобными людьми. Затем он оставил Хэмпшира наедине с заключенным. Тот сразу же заявил, что ничего не скажет Хэмпширу, если Хэмпшир не гарантирует, что его выдадут англичанам. Хэмпшир ответил, что не может дать такой гарантии. Так этот человек ничего ему не сказал, и его застрелили французы.
Другой философ, когда я рассказал ему эту историю, резко заметил, что она показывает, что Хэмпшир был очень плохим выбором для этого задания. Но я рассказываю эту историю не для того, чтобы определить, правильно ли поступил Хэмпшир, не солгав заключенному в этих обстоятельствах. Я привожу это как реальный пример силы определенного типа непосредственной моральной реакции.
Даже те, кто считает, что Хэмпшир должен был по веским инструментальным причинам ложно пообещать жизнь этому человеку, которому грозила верная смерть, могут почувствовать силу барьера, который предстал перед Хэмпширом. Это пример такого рода моральной интуитивной реакции, которая занимает видное место в свежей литературе по эмпирической моральной психологии. Я предполагаю, что сканирование мозга Хэмпшира в то время выявило бы повышенную активность в вентромедиальной префронтальной коре.
Много интеллектуальных усилий было потрачено на определение защитных границ у людей, которые, согласно обычной морали, мы не должны пересекать. Зачастую примеры, призванные пробудить нашу интуицию, более искусственны, чем этот – как в знаменитой проблеме вагонетки. Но это явление реально, и оно является неизбежной частью человеческой морали.
Меня интересует вопрос, каким авторитетом наделить эти моральные суждения, или восприятия, или интуицию – каковы рассуждения, которые могут привести нас либо к утверждению их как правильных и фундаментальных, либо к их отрицанию, так что мы станем считать их просто видимостью, которая не имеет практической ценности, или, возможно наоборот, к отказу от них, но, тем не менее, к допущению их влияния на нашу жизнь, которое не является фундаментальным, но вытекает из других ценностей. Эта проблема существует уже давно, и многое из того, что я скажу о ней, будет вам знакомо. Но состоявшиеся недавно дискуссии побуждают взглянуть на нее еще раз.
* * *
Я хорошо понимаю классического интуитивиста У.Д. Росса, когда он говорит: “Просить нас по требованию теории отказаться от того, как мы фактически понимаем, что правильно и что неправильно, похоже на то, как если бы мы просили людей отказаться от их фактического представления о красоте по требованию теории, которая гласит: “Красивым может быть только то, что удовлетворяет таким-то и таким-то условиям””. Тем не менее, некоторый переход к теории кажется неизбежным в ответ на глубокие разногласия, которые постоянно возникают при обсуждении этой темы.
Джон Ролз дал название “рефлексивное равновесие” процессу приведения в порядок мыслей о морали путем сопоставления общих принципов с рациональных суждениями о конкретных случаях, и корректировки обоих до тех пор, пока они не будут более или менее удобно сочетаться друг с другом. Этот процесс не рассматривает конкретные суждения как непреложные данности или общие принципы как самоочевидные аксиомы, поэтому он не обязательно должен быть консервативным: он может привести к радикальному пересмотру некоторых рациональных предпосылок.
Но в качестве отправной точки он должен брать интуитивные ценностные суждения, и для того, чтобы отбросить некоторые из них как ошибочные, он должен опираться на другие – точно так же, как мы должны опираться на свидетельства чувств, когда отбрасываем некоторые ощущения в качестве иллюзий. Я думаю, что этому методу нет альтернативы для поиска ответов на моральные вопросы, благодаря которым мы могли бы сохранять определенную уверенность даже перед лицом разногласий.
Хотя этот процесс структурно похож на проверку эмпирических гипотез в естественных или социальных науках на основании данных наблюдений, есть одно существенное различие. В случае науки мы понимаем, что наши наблюдения являются результатом причинно-следственного взаимодействия с исследуемым нами миром.
Даже если мы не решили проблему соотношения сознания и тела и не понимаем, как мозг производит сознательный опыт, у нас есть приблизительное представление о себе как об организмах, встроенных в мир причин, компоненты и законы которого мы пытаемся обнаружить; поэтому то, как вещи выглядят с нашей точки зрения, очевидно предоставляет данные для такого исследования. Однако в случае с моралью мы не считаем наши оценочные интуиции результатом каузального взаимодействия с областью морали, и неясно, какой другой вид встроенности или доступа к моральной истине может подразумевать моральное суждение.
Как часто замечают, моральные суждения имеют нечто общее с логическими и математическими суждениями, которые также не являются результатом каузального взаимодействия с областями логики и математики. Знание, полученное непосредственно путем размышления, является таинственным. Но я оставлю в стороне большой и трудный вопрос о том, как это возможно, и сосредоточусь на более конкретных вопросах.
Вот распространенные свойства традиционного морального сознания, из-за которых и возникает наша проблема. Мы оцениваем множество различных вещей, но важными среди них являются состояния дел или результаты, с одной стороны, и действия или политика, с другой. Для оценки состояния дел мы используем понятия “хорошо” и “плохо”, “лучше” и “хуже”. Для оценки действий мы дополнительно используем понятия правильного и неправильного.
Классическая проблема заключается в том, существует ли независимый аспект морали, определяющий правильность и неправильность действий и политики – либо отдельных людей, либо институтов – или же единственными действительно фундаментальными ценностями являются добро и зло, так что стандарты добра и зла должны объясняться инструментально, путем определения типов действий и политики, которые приводят к хорошим и плохим результатам.
Последнему Элизабет Энском дала название “консеквенциализм”, а его наиболее известной версией является утилитаризм. Противоположная точка зрения, согласно которой право, по крайней мере в некоторых отношениях, не зависит от блага, не имеет названия, но принципы, которые она определяет, обычно называют деонтологическими – уродливое слово, но мы, похоже, у нас нет другого.
Деонтологические принципы говорят, что морально обоснованные разрешение, запрет или требование поступать так, а не иначе часто зависит не от того, хороши или ужасны его последствия в целом, а от внутренних характеристик самого поступка. В случае, подобном делу Хэмпшира, расчет вероятных последствий явно говорит в пользу того, чтобы солгать заключенному, поэтому, если бы поступать так было бы неправильно, то так оно должно было бы быть явно по какой-то другой причине.
Сосуществование в обычном моральном сознании и рассуждениях о морали этих двух типов оценки является отправной точкой для моральной рефлексии, которая может привести нас к новому равновесию. Если мы серьезно воспринимаем и последствия, и деонтологию как руководство к действию, они, естественно, часто будут представляться нам как дилемма.
Когда деонтологический запрет – против убийства невинных, против нарушения обещания, против предательства – блокирует действие, которое предотвратило бы большее зло или привело бы к большому благу, мы, вероятно, хорошо чувствуем силу причины для реализации блага, что делает соблазнительным нарушение запрета. Я считаю, что чувство морального конфликта в этих случаях возникает естественным образом и не является просто философским артефактом.
Один из возможных ответов на такую дилемму – просто принять основания консеквенциализма в качестве решающих, чтобы они преобладали над деонтологической интуицией, которая истолковывается как чрезмерная моральная щепетильность или необоснованное табу. Однако без дополнительных объяснений такой полностью консеквенциалистский ответ был бы произвольным.
Проблема возникает потому, что у нас есть оба типа моральной интуиции, и если мы собираемся позволить одному типу преобладать над другим, то можно так же легко пойти и в противоположном направлении: мы можем решить, что принцип, согласно которому человек всегда должен делать только то, что приведет к наилучшим последствиям для всех, продемонстрировал свою ложность очевидной недопустимостью использования конкретных средств, таких как пытки, для достижения благих целей.
Вывод будет заключаться в том, что позволять хорошим и плохим результатам всегда определять добро и зло – это иллюзия, возможно, иллюзия относительно того, чего требует рациональность.
Непосредственное сопоставление интуиций друг с другом приводит к ничьей. Чтобы решить, какой из них верить, а какую, если она есть, отбросить, мы должны сделать нечто большее. Для каждой стороны дилеммы мы должны рассмотреть все “за” и “против” – как наилучшим образом использовать эти типы суждений или как наиболее убедительно подорвать их авторитет.
С позитивной стороны легче всего объяснить значение консеквенциалистских ценностей, как в утилитаризме. Каждый из нас имеет непосредственный доступ к оценке того, хороши или плохи определенные вещи для нашей собственной жизни, таких как удовольствие и боль, свобода и принуждение, выживание и смерть. Как только мы принимаем важнейшее суждение о том, что такие вещи объективно хороши и плохи, воображение позволяет нам распространить эти ценности на аналогичные характеристики для жизни других людей.
Кажется, нет причин оценивать данное количество удовольствия или боли по-разному в зависимости от того, кто его испытывает. Поэтому очевидный способ сравнить ценность двух состояний – это сложить хорошее или плохое для жизни всех участников и посмотреть, какое из них имеет более высокий чистый баланс. Именно его мы должны предпочесть и, если возможно, добиться. Хорошее предпочтительнее плохого, а лучшее предпочтительнее худшего. Независимо от того, правильны они или нет, ценностные суждения консеквенциалистов не содержат в себе тайны.
Позитивная интерпретация деонтологических ценностей менее прозрачна, но я считаю, что мы можем придать им определенный смысл. Когда мы думаем таким образом о том, как ценить других, центральное место занимает их статус автономных существ, независимых от нас, а не их восприимчивость к удовольствию и боли или другим хорошим или плохим вещам, которые могут с ними произойти.
Деонтологические требования управляют нашим непосредственным взаимодействием с любым другим человеком; они определяют, как мы можем с ним обращаться, а не тем, что мы должны хотеть, чтобы с ними произошло. Как и в случае с ценностями консеквенционализма, мы имеем дело с распространением на каждого человека ценности, значение которой мы можем признать для самих себя. Основная идея заключается в том, что мы должны рассматривать каждого человека, включая себя, как не подчиненного другим – как центр защищенной моралью сферы индивидуальной автономии, которая может быть предоставлена в равной степени каждому.
Каждый из нас уважает эту автономию в других, прежде всего, не как благо, которое мы должны поощрять, а как границу, которую мы не должны нарушать. Мы не должны нарушать ее даже для того, чтобы предотвратить другие нарушения того же рода – отсюда запрет на пытки даже для получения информации о планируемом террористическом акте. Эта идея неприкосновенности кажется ясной, даже если существует значительная неопределенность относительно точной формы деонтологических границ.
Здесь, как и везде, есть место для неопределенности и постоянных размышлений. Пока что это всего лишь интерпретация деонтологии как ясного способа оценки людей, а не доказательство ее правильности. Но в этом отношении она находится на том же уровне, что и интерпретация, которую я дал для консеквенционализма.
Согласно этой версии, наши деонтологические представления о том, что определенные вещи нельзя делать с людьми, являются лишь субъективным опытом столкновения с объективными границами неприкосновенности, которые определяют систематическую форму ценности. Хэмпшир, очевидно, чувствовал, что манипулировать заключенным, ложно обещая ему жизнь, – это то, чего он просто не может сделать, даже по отношению к врагу.
Это феноменологически сложнее, чем беспристрастное сочувствие удовольствиям и боли других, которое мотивировало бы подчинение утилитарным требованиям. Но это понятно в качестве реакции на другой вид ценности, которой обладают люди.
Есть еще что-то, что можно сказать положительного в пользу обоих типов интуиции, консеквенциалистской и деонтологической. Однако это еще не конец истории. Я сказал, что необходимо рассмотреть плюсы и минусы обоих типов интуиции, и наиболее интересными аргументами являются те, которые утверждают, что подрывают авторитет некоторых наших интуитивных отправных точек – особенно деонтологических. Я опишу два из них.
Первая – это теория, которой мы обязаны Дэвиду Юму, и которая стремится не дискредитировать деонтологические требования, а показать, что они не являются морально базовыми, поскольку их можно объяснить в терминах других ценностей. Эта теория называется консеквенциализм правил, или, в одном из ее более конкретных вариантов, утилитаризм правил.
Она призвана оправдать многие из наших деонтологических интуиций – о собственности, контракте, обещании, политических обязательствах и различных индивидуальных правах – приписывая их тому, что мы усвоили определенные конвенции со строгими правилами, которые служат общим интересам.
Эта теория представлена Юмом в его рассуждениях о том, что он называет “искусственными” добродетелями, и ее суть заключается в том, что эти моральные требования не имеют основания, независимого от общего блага общества. Кажется, что они нуждаются в независимом основании только потому, что общее благо общества требует строгих правил, таких как правила собственности и договора, которые могут служить своей консеквенциалистской цели, только если им следуют, даже если их нарушение в отдельном случае принесет больше пользы, чем вреда.
Полезность правила для создания безопасности и предсказуемости требует, чтобы полезность не учитывалась при принятии решения о том, придерживаться ли его в каждом отдельном случае. Участники этих конвенций, усвоившие правила, воспринимают неправильность воровства и нарушения обещаний как простые и неотъемлемые; но эти требования не носят своего истинного значения в явной форме. Их конвенциональность и консеквенциалистские основы скрыты, и это способствует их эффективности.
Хотя я считаю, что она не может дать полностью адекватное представление о правах, теория Юма является блестящим вкладом в моральную философию. Она предлагает объяснить деонтологические требования таким образом, который также открывает возможность пересмотра этих требований, если благу общества будут лучше служить изменения конвенций и правил. Я считаю, что консеквенциализм правила – это, по крайней мере, часть правды о правах и деонтологических обязательствах.
Это подтверждается тем фактом, что общества, которые отказались от защиты индивидуальных прав, чтобы освободить руки для более эффективного достижения общего блага, имеют одни из самых печальных результатов в отношении его фактического достижения.
Консеквенциализм правил стремится не устранить деонтологию, а показать, что она не является морально фундаментальной. Но недавно появилась вторая, более разрушительная критика антиконсеквенциалистских моральных интуиций. Она содержится в работах некоторых психологов, в частности Дэниела Канемана, Джонатана Хайдта и Джошуа Грина, которые обратили свое внимание на психологический анализ моральных суждений и мотивации, а также на их нейрофизиологические, эволюционные или социологические предпосылки.
Этот подход был также подхвачен непсихологами, такими как Питер Сингер и Касс Санстейн. Как и Юмов, этот подход приписывает деонтологическим правилам некую форму социальной пользы, но больше склоняется к тому, что эта полезность была более выражена в прошлом, когда наши предки-охотники-собиратели жили в малых группах, и эволюционные силы выработали соответствующие своему времени функциональные предрасположенности, которые мы находим действующими в нас и по сей день.
Эти предрасположенности серьезно препятствуют непосредственной межличностной агрессии и нарушению межличностных соглашений, и поэтому способствуют мирному сосуществованию и сотрудничеству. Они эффективны, потому что не требуют знания долгосрочных последствий, а реагируют только на непосредственный характер действия и задействуют эмоции, а не разум.
В итоге, как и у Юма, этот подход отчасти оправдывает, а отчасти развенчивает. Он не ставит перед собой задачу обнаружить моральную основу наших интуиций. Вместо этого он просит нас занять отстраненную позицию по отношению к себе и нашим моральным реакциям – так сказать, попытаться понять себя со стороны.
Затем, как утверждается, мы обнаруживаем, что некоторые из наших самых устойчивых моральных суждений являются продуктом не разума, а эмоционально заряженного инстинкта, порожденного естественным отбором. Только после научного объяснения этих реакций мы можем решить, какие из них должны продолжать оказывать на нас влияние, а какие следует отбросить как эмоциональные иллюзии.
Вывод этих психологических критиков заключается в том, что хотя эволюционное наследие деонтологической морали сохраняет некоторую пользу в качестве набора эвристик для определения правильных поступков в большинстве случаев – или, выражаясь словами Канемана, как пример “быстрого мышления” в противоположность менее эффективному, но более точному “медленному мышлению” – тем не менее, единственными моральными стандартами, которые действительны сами по себе, являются рациональные стандарты консеквенциализма, более конкретно – некоторые формы утилитаризма.
Это стандарт, который лежит в основе того, что полезно в деонтологических аспектах интуитивной морали, и это также стандарт, который оправдывает отказ от деонтологических интуиций, когда более медленный подсчет затрат и выгод показывает, что они приведут нас к большему вреду, чем пользе.
Однако даже с учетом этой предполагаемой научной поддержки, я считаю, что еще слишком рано объявлять о победе консеквенциализма.
* * *
Отстраненная биологическая позиция по отношению к себе сегодня является культурно общепринятой. Люди привыкли думать о своих психологических наклонностях как о продукте естественного отбора, а о своих мыслях и желаниях – как в сущности неподвластных их сознательному рациональному контролю. Но это лишь ставит проблему различия между моральной видимостью и моральной реальностью, но еще не решает ее.
Психологически редуктивистские или развенчивающие описания наших моральных интуиций не являются самооправданием; они являются вкладом в процесс рефлексивного равновесия, и мы должны решить, являются ли они более правдоподобными, чем суждения, которые они предлагают заменить.
Проблема различия видимости и реальности лежит в основе философии, и она присутствует в каждой ее области. Она возникает, когда мы временно выходим за пределы себя и рассматриваем то, как вещи кажутся нам в некотором отношении, как психологический факт – факт об определенном типе существ в мире.
Тогда вопрос заключается в том, совместимо ли наилучшее объяснение данного психологического факта – с использованием доступных нам форм биологического, нейрофизиологического, психологического и исторического знания – с тем, чтобы мы продолжали утверждать, что вещи таковы, какими они кажутся с этой точки зрения. Мы можем задать этот вопрос независимо от того, является ли явление чувственным восприятием, воспоминанием, математической достоверностью, эстетическим суждением или моральным убеждением.
Однако важно, что когда мы делаем этот шаг за пределы себя, внутренняя точка зрения, которую мы рассматриваем, не исчезает. Мы не можем полностью отстраниться от своей собственной точки зрения и наблюдать за собой, как будто мы кто-то другой. Даже когда мы принимаем внешнюю точку зрения, она все равно остается нашей.
В случаях, которые мы обсуждаем, как деонтологические интуиции о неправильности убийства или предательства, так и консеквенциалистские интуиции о пользе спасения большего количества жизней, а не меньшего, продолжают оставаться prima facie основаниями для моральных убеждений, и мы должны решить, оправдает ли нас то, что представляется внешнему взгляду, если мы пренебрежем некоторыми из них.
Когда мы приходим к такому заключению, то мы просто вынуждены пользоваться моральной интуицией – иначе мы не смогли бы сделать никаких моральных выводов. Таким образом, вопрос будет заключаться в том, убедительно ли внешний взгляд – научный, исторический или социологический – на наш моральный выбор ослабляет авторитет одних больше, чем других?
Поскольку сами ответы участвуют в этом соревновании, результат не будет автоматическим. Для тех видов индивидуальных прав, которые мы рассматриваем, я считаю, что результат внешнего оспаривания остается столь же проблематичным, как и первоначальная моральная дилемма.
Когда в дискуссию включаются психологические и нейрофизиологические данные и спекулятивные эволюционные объяснения, реакции обычно расходятся, причем, как я подозреваю, в значительной степени в зависимости от предшествующей предрасположенности мыслящего к чисто консеквенциалистскому мировоззрению или против него. Некоторые люди просто считают утилитаризм единственной рационально понятной формой морального обоснования; другие считают столь же очевидным, что мораль имеет другое измерение.
Для первых тот факт, что к деонтологическим суждениям приходят быстро, без обдумывания, и что они связаны с эмоциями, как феноменологически, так и нейрофизиологически, является причиной для дискредитации их как примеров морального знания, тем более что они иногда требуют от нас совершать то, что явно нерационально, а именно выбирать большее зло вместо меньшего. Гипотеза об их эволюционном происхождении дает альтернативное объяснение их эмоциональной силе.
Но для антиконсеквенциалистов непосредственность и эмоциональная сила реакции против убийства, пыток, предательства и так далее не удивительны, поскольку это реакция на непосредственный моральный характер нашего взаимодействия с другим человеком, а не на его более широкие последствия. Конечно же, ваша вентромедиальная префронтальная кора будет сжиматься, когда вы будете думать об убийстве или пытках!
Антиконсеквенциалисты также указывают на другой психологический факт: беспристрастная доброжелательность, мотив, который, как предполагается, лежит в основе утилитаризма, слишком слаб у большинства человеческих существ, чтобы поддерживать повиновение его требовательным моральным требованиям; это делает его непригодным в качестве единственной основы человеческой морали.
Что касается эволюционных спекуляций, то они вряд ли считаются независимыми эмпирическими данными: они действительно обусловлены консеквенциалистской теорией морали, и их можно принимать лишь cum grano salis.
Другими словами, ничто в этом сложном наборе аргументов и контраргументов не заставляет отказаться ни от консеквенциалистской, ни от деонтологической позиции. Главное, как отметил Селим Беркер, заключается в том, что разногласия по поводу того, как реагировать на информацию о психологии и нейрофизиологии моральных суждений, сами по себе являются моральными разногласиями.
Конечно, вполне законно вводить эти данные в процесс конструирования рефлексивного равновесия, но в конечном итоге именно мы должны решить, должны ли они подрывать нашу уверенность в обоснованности деонтологических суждений, которые они должны объяснить. И в этом решении сами эти интуиции играют определенную роль. Они не уходят со сцены автоматически в ответ на показания МРТ.
Вопрос не в том, приведет ли взгляд со стороны к эмоциональному ослаблению оспариваемых интуиций. Вопрос в том, убедит ли он нас считать их, независимо от их эмоциональной яркости, просто видимостью, а не признанием моральной реальности. (В конце концов, оптические иллюзии не исчезают как особенности зрительного опыта, когда мы путем измерения узнаем, что это иллюзии).
Когда мы рассматриваем себя и нашу моральную психологию извне, нам все равно приходится решать, требует ли внешний взгляд от нас отказа от согласия с тем, что представляется истинным изнутри. И внутренний взгляд является участником этого выбора.
Я думаю, что из истории этой дискуссии и упорства обеих сторон ясно, что здесь можно найти два совершенно разных рефлексивных равновесия, одно из которых сохраняет значительный деонтологический компонент в морали, а другое – значительный ревизионистский.
* * *
Я считаю, что в свете истории этого противостояния ни одна из сторон не может считать себя опровергнутой другой. Обе стороны являются жизнеспособными моральными позициями. Поэтому давайте зададим несколько иной вопрос. Будет ли переход на ревизионистскую позицию считаться моральным прогрессом? Именно так его обычно представляют, противопоставляя консерваторам нежелание отказаться от чувственной привязанности к основным индивидуальным правам, рассматриваемым как наследие прошлого.
Нам известно, что нравы со временем меняются, и кажется маловероятным, что нравственность когда-нибудь достигнет окончательного устойчивого состояния, так же как и наука. Вместо того чтобы говорить, что некая форма консеквенционализма является единственно верным рациональным моральным мировоззрением, моральных ревизионистов можно понять как тех, кто предлагает нам шаг вперед на этом пути морального развития.
Можно представить подобное, mutatis mutandis, по аналогии с более поздней научной теорией, которая не просто опровергает, а замещает собой более раннюю теорию, сохраняя и объясняя многие ее результаты и пересматривая другие. Но вся разница в том, что этические теории – это не альтернативные описания внешнего мира, а нормативные альтернативы.
Некоторые примеры реформирования нравов можно рассматривать только как попытки открыто опровергнуть взгляды, которые им противостоят. Это относится к современной революции во взглядах на гомосексуальность, которая преодолела очень сильное табу во имя свободы личности и человеческого счастья и, похоже, находится на пути к устранению эмоционально нагруженного чувства порока, которое так долго поддерживало это табу.
С другой стороны, некоторые предложения о моральном прогрессе просто ложны, иногда до ужаса. И нацизм, и большевизм оправдывались моральным прогрессом. Но есть и другие примеры, которые ставят вопрос о прогрессе по-другому, через сравнительную оценку между альтернативными концепциями одной и той же моральной области.
Одним из примеров, который можно рассматривать подобным образом, и который тесно связан с рассматриваемыми нами проблемами, является вопрос о праве на собственность. Надежда радикалов на то, что право частной собственности может быть отменено в пользу коллективной собственности, оказалась разрушительной мечтой. Но я нахожу совершенно убедительной точку зрения Юма на собственность, согласно которой она является не базовым моральным правом, а скорее конвенцией, которая поддерживается по мере того, как она отражает коллективные интересы общества.
И до тех пор, пока эта конвенция обеспечивает безопасность собственности, ее наследования и обмена ею, позволяя накапливать капитал, осуществлять экономическое планирование и сотрудничество в долгосрочной перспективе, система правил и прав собственности может служить и другим целям, таким как распределительная справедливость. Эта инструментальная, антилокковская концепция прав собственности имеет определенную ценность, но ей противостоит мощная либертарианская линия в нравственности Запада, которая продолжает иметь большое политическое влияние, особенно в США.
Поэтому я думаю, что конвенциональная, в значительной степени консеквенциалистская концепция права собственности, превращающая ее в средство социальной справедливости, лучше всего представляется как призыв к моральному прогрессу – призыв к поглощению преобладающей концепции расширенной концепцией. Реформа собственнической морали означала бы, что именно коллективное благо, а не индивидуальная свобода обосновывает право собственности.
Хотя индивидуальная свобода является важной ценностью и должна быть защищена при осуществлении тех прав собственности, которыми мы обладаем в соответствии с конвенциями о коллективной ценности собственности, она не должна рассматриваться как основа этих прав и не должна определять их содержание.
Это пример того, как моральное мировоззрение, которое в значительной мере опирается на интуицию, может быть заменено другим, считающимся более совершенным. На мой взгляд, даже если концепция права собственности, основанная по большей части на свободе и владении самим собой, воплощает значимые ценности, ее замена конвенционалистской концепцией, которая подразумевала бы еще и определенную защиту свободы, была бы ярким примером подобного прогресса.
* * *
Но будет ли моральным прогрессом, если мы станем рассматривать все деонтологические границы не в качестве фундаментальных принципов морали, а в лучшем случае как грубые ориентиры, достойные уважения лишь в той мере, в какой их относительно строгая защита действительно служит благосостоянию общества или человечества в целом? Я думаю, это зависит от того, будет ли считаться прогрессом упрощение моральной точки зрения как таковой.
В каком-то смысле моральная точка зрения требует поставить себя на место других и учитывать отдельную точку зрения каждого человека при принятии решения о том, что делать. Вопрос в том, как?
Нельзя отрицать привлекательность консеквенциалистского способа беспристрастной оценки людей. Может показаться, что нет способа учесть точки зрения всех людей, не сливая их в единый океан пользы и вреда, который затем оценивается как единое целое. Однако есть и другой способ.
В деонтологической морали каждый человек предстает перед нами отдельно, и неприкосновенность стоящего перед нами человека господствует над соперничающими претензиями тех, кому мы могли бы помочь, принеся его в жертву общему благосостоянию. В некотором смысле неприкосновенность этого человека означает неприкосновенность всех. Я думаю, мы чувствуем это даже тогда, когда в типичной дилемме ставим себя одновременно на место нескольких потенциальных жертв этих двух различных видов.
Это моральное уважение к индивиду – как раз то, что мораль может гарантировать всем в равной степени: единое право на определенное обращение, единый статус, единые рамки или границы. Оно определяет характер наших отношений друг с другом. Каждый человек, с которым я общаюсь, представляет для меня одну и ту же упрямую и непроницаемую моральную поверхность, что и я ему: есть определенные вещи, которые ни один из нас не может сделать по отношению к другому.
И этот “этический минимум” является выражением структурного требования, что взгляд с точки зрения морали должно уважать каждого человека в отдельности. Это не так, если мораль в принципе допускает полное подчинение интересов одного человека крупным интересам других. Как подчеркнул Фрэнсис Камм, подобным образом понятый неприкосновенный статус отрицается для каждого человека любой системой консеквенциализма, какие бы результаты она ни оценивала.
Вопрос, который я ставлю, заключается в следующем: должны ли мы, глядя на себя со стороны, рассматривать нашу привязанность к правам и деонтологии как излишне загроможденное моральное мировоззрение, которое грубо превозносит требования стоящего перед нами человека и ограничивает нашу рациональность? Будет ли прогрессом, если мы перестанем воспринимать деонтологическое мировоззрение, ориентированное на личность, и вытекающие из него интуиции как фундаментальные моральные ориентиры?
Если так, то я убежден, что мы утратим нечто важное. Несомненно, нравы людей будут развиваться, и, возможно, общественная мораль будет двигаться в более консеквенциалистском направлении. Но совершенно иной способ оценивать людей, относиться, несмотря ни на что, к каждому по достоинству, и требовать такого же отношения к себе, является жизненно важной частью нашей жизни.
Самое главное, что этот особый способ мышления о том, как относиться друг к другу, является источником наших постоянно развивающихся интерпретаций равенства людей как носителей прав человека. Без этого преимущества членства в моральном сообществе серьезно уменьшились бы – не количественно, а качественно. Те, кто с этим не согласен, сочтут, что я здесь просто совершаю логическую ошибку, круг в доказательстве – но, возможно, эта ошибка неизбежна.

Источник: London Review