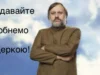Пьер Адо, выдающаяся фигура в изучении античной мысли, выделил три аспекта занятий философией в античности. Решающим для различия был контекст занятия философией, а не ее методы, форма или содержание.
Затем Адо соотнес эти три аспекта с архетипическими фигурами, а именно: “философ, живущий внутри своей школы, философ, живущий в городе, философ, живущий с самим собой (и с тем, что выходит за его пределы)” [1].
Для неспециалистов в области античной мысли это различие может показаться, по меньшей мере, странным. Разве большинство философов не живут в городах? Разве все они не принадлежат к той или иной школе мысли? И как мы можем представить себе “философа, живущего с самим собой” или с самой собой, если не через треснувшее зеркало интеллектуальных биографий и автобиографий?
Давайте подробнее рассмотрим первый и третий пункты по Адо. Жизнь в философской школе – это протомонашеский опыт, в котором переплетены почитаемый духовный наставник с четкой организационной структурой, созданной на расстоянии вытянутой руки от внешнего мира. Философ, живущий с самим собой, занимается тем, что Адо называет “духовными упражнениями”, включая исследование сознания, размышления и “внутреннюю и мистическую жизнь” [2].
Оба эти аспекта занятия философией кажутся безнадежно устаревшими, сохранившимися в лучшем случае в едва узнаваемой форме. Пресловутая университетская башня из слоновой кости – это далекий и извращенный отголосок древних школ, а духовные упражнения в коммерческой обертке занятий йогой и медитацией – не более чем хобби, лишь случайно связанное с получением степени или стрессом при подготовке статей.
Куда любопытнее судьба “живущего в городе”. Относительно этого контекстуального аспекта философствования Адо пишет: “…философские школы никогда не отказывались от активного влияния на сограждан. Средства, мобилизованные для достижения этой цели, конечно, бывали различны. Некоторые философы пытались осуществлять прямые политические действия, мечтая захватить власть.
Другие довольствовались советами правителям. Следующие ставили себя на службу городу, давая уроки эфебам или пытаясь спасать его в роли послов. Еще одни надеялись заставить своих сограждан понять, что такое истинная жизнь, предлагая им пример своей собственной жизни. Все, по сути, думали изменить образ жизни своих сограждан” [3].
Адо подтверждает, что философия в античности является квинтэссенцией этики и политики. Влияние, которое философы хотели оказать на своих сограждан и правителей, не является запоздалым дополнением к их теоретическим программам. Эти практические последствия лежат в основе философствования, независимо от того, живет ли философ в городе или в квазимонашеской среде.
И именно на этом уровне различия становятся немного размытыми: какой бы уединенной ни была философская школа, ее цель – вмешательство в общественную жизнь, так же как и духовные упражнения, какими бы индивидуальными они ни были, их конечная цель – подавать пример другим.
Взятые вместе, эти три измерения философии подразумевают, что этот вид человеческих поисков является одновременно личным и общественным, эзотерическим и экзотерическим, благодаря связи, которую обеспечивают его желательные этические и политические эффекты. Эта глубокая интеграция философских теорий в практику в наше время почти полностью исчезла.
Философы, которые не специализируются на “этической и политической мысли”, в значительной степени отстранены от более широкого влияния своих трудов или мыслительных экспериментов. Те немногие, кто все же пытается консультировать правителей, выступают в качестве апологетов статус-кво (в качестве примера можно привести Бернара-Анри Леви во Франции, хотя можно привести и многих других).
Те, кто преподает в Гарварде, Йеле или Стэнфорде и, следовательно, де-факто несет ответственность за подготовку будущих политических кадров для США и других стран мира, редко берут на себя бремя этой неявной ответственности. Так называемые публичные интеллектуалы часто сводят свои месседжи до набора терапевтических банальностей.
Если, как утверждает Адо про древних философов, все они “думают, чтобы изменить образ жизни своих сограждан”, то для нас в XXI веке возникает вопрос: зачем вообще думать в мире, где любые изменения исключены с самого начала? Или мы думаем, что все еще думаем, даже после того, как жизненно важный аспект философствования угас?
Напомним, что моральная и политическая сила философии в античности была отнюдь не посторонним дополнением, а неотъемлемой частью задачи философствования (если бы это было не так, философия с ее пропагандой перемен была бы всего лишь идеологией). Именно в этом смысле Аристотель видел в науке политики царицу всех наук. Для греческого мыслителя самым важным вопросом был вопрос о целях: для чего? каково это благо?
Вопрос о целях был вопросом, касающимся блага, даже и особенно в его наиболее прагматических и практических версиях. Наука, называемая “политической”, занималась общим благом, которое в своем универсальном охвате всех других целей было самым всеобъемлющим. Именно поэтому политика для Аристотеля была высшей из наук, стоящей выше изучения природы (физики) или ведения хозяйства (экономики).
В продолжение вышеприведенного примера (который, конечно, больше, чем просто пример), современная философия и повседневный дискурс предполагают отсутствие у целей какого бы то ни было значения и ругают аристотелевские конечные причины. Консенсус, возникающий благодаря повсеместной критике телеологии, заключается в том, что не существует установленных целей, с сопутствующим выводом, что завершенность и достижения сводятся к куче постыдных иллюзий. Тем не менее, одна и та же цель, связанная с постоянно растущей нормой прибыли, оживляет большую часть культурной, интеллектуальной, политической, не говоря уже об экономической жизни за кулисами краха телеологий.
Перед нами вопиющее, хотя и не осознаваемое противоречие: нет никаких установленных целей, но все зависит от цели извлечения прибыли и служит ей. Аналогичное противоречие вырисовывается и в философии XXI века в целом. Метафизика с ее извечным утверждением, что мир сводим к единой идее, субстанции или бытию, которое в то же время выходит за его пределы, была объявлена мертвой.
Тем не менее, под видом постметафизического нейтралитета мы находим метафизику технологического (точнее, техницистского) мышления, вооруженную числовыми абстракциями и алгоритмами для управления социальной и политической жизнью, моделями потребления и так далее. Другими словами, метафизика завершилась, но все пропитано метафизикой техницизма.
Мы действительно ушли далеко от трех аспектов философской практики, как их резюмировал Адо. Но вместо того, чтобы ностальгировать в нынешней ситуации, давайте спросим: а что если бессилие философии – это замаскированное благословение? Ведь когда философов воспринимают как прямое или даже косвенное влияние на сограждан и власти, их часто яростно отвергают, а еще хуже – подвергают преследованиям и смерти.
Вспомните суд над Сократом, в ходе которого афинские присяжные признали его виновным в “развращении молодежи”, а также осуждение Нероном Сенеки на самоубийство, линчевание толпой Гипатии, обезглавливание Томаса Мора, отлучение Баруха Спинозы от еврейской общины, убийство Махатмы Ганди индусским националистом.
На этом удручающем фоне бессилие философии, дисциплины, которую больше не воспринимают всерьез, является замаскированным благословением не потому, что философы наконец-то могут спасти свою шкуру – или, по крайней мере, не только поэтому. В соответствии с двумя другими противоречиями, которые мы уже выявили, это означает, что философы и философия не имеют власти, но все зависит от власти философии.
Метафизическое мышление восторжествовало после того, как философов убедили, что с ним покончено; а сама философия становится всесильной именно тогда, когда широкая общественность и те, кто находится у власти, убедятся в ее абсолютной бесполезности.
Бессилие философов и самой философии – это сила мышления перед лицом многочисленных кризисов, когда испытанные и проверенные решения не работают. Это сила того, что кажется бесполезным в настоящем и того, что внезапно становится бесценным в тот момент, когда установленный порядок больше не работает, будь то в результате сокрушительных последствий пандемии или изменения климата. Сила, которая, будучи лишенной очевидной эффективности и непосредственного применения, все же соответствует столь порицаемым конечным целям по мысли Аристотеля.
В 1847 году Карл Маркс опубликовал работу “Нищета философии”, название которой каламбурно перекликалось с работой Пьера-Жозефа Прудона “Философия нищеты” 1846 года, на которую и отвечал Маркс. Несмотря на многообещающее название, Маркс на самом деле мало что смог сказать о философии, вместо этого он разрабатывает основы для будущей критики политической экономии.
Неявно, однако, его вывод состоит в том, что философия бедна из-за приверженности к чистой абстракции, которая ставит ее на сторону меновой стоимости, забывая о качественно различных целях. Намекая на эту интеллектуальную предысторию, “бессилие философии” не означает ни чрезмерной критики, ни пренебрежительного отношения к философской деятельности.
Напротив, я хочу сказать, что мы должны принять это бессилие без доли пораженчества и поместить в контекст современных проблем. И когда мы это сделаем, философия, возможно, наконец-то станет чем-то действительно важным.
* * * * *
[1] Hadot P. The Ancient Philosophers. In: The Selected Writings of Pierre Hadot: Philosophy as Practice. London & New York: Bloomsbury, 2020. P. 50.
[2] Ibid. P. 51.
[3] Ibid.

Источник: The Philosophical Salon