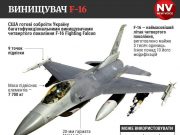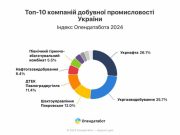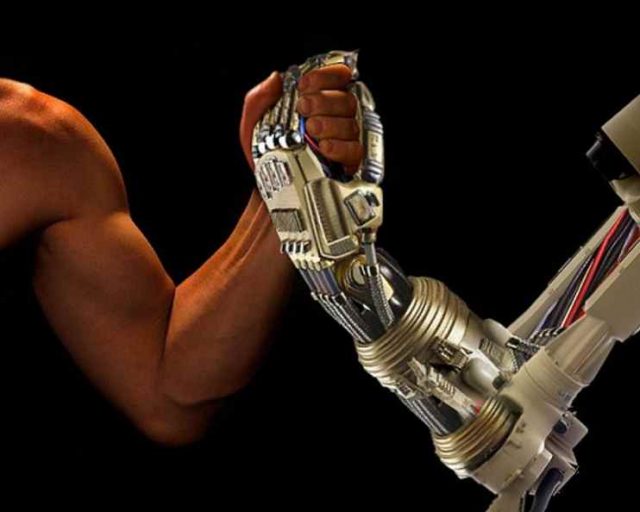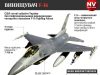Слово “антропоцен”, определяемое как “геологическая эпоха, в течение которой деятельность человека оказывает доминирующее влияние на окружающую среду, климат и экологию Земли”, было включено в Оксфордский словарь английского языка только в 2014 году.
Но разве не кажется, что это было миллион лет назад? Бенджамин Кункель, статья которого вышла в LRB 5 марта, обнаружил термин в массе свежевышедших в свет книгах по естествознанию, искусству и поэзии, и даже на дэт-металлическом альбоме.
И закончил материал тем, что это слово может означать для марксистских политэкономов, пытающихся спроецировать его в столь долгожданное посткапиталистическое будущее: “И тогда в политическом смысле слова, вопрос о начале антропоцена заключается не в том, когда он начался, а в том, начнется ли вообще и если да, то где именно? В общем, счастливого пути!”
Легко понять, почему этот термин так быстро получил столь широкое распространение. Он замечательно выглядит, а при его произнесении чувствуется во рту приятный оттенок вкуса, и кажется, что именно он должен придать актуальность и задать новое направление старым дискуссиям, которые всем надоели, об изменении климата, истощении ресурсов, будущем планеты и т.д.
Именно это более или менее в точности соответствовало надеждам Пола Крутцена и Юджина Ф. Стормера, когда они впервые предложили термин в Global Change Newsletter в 2000 году. Крутцен – химик, специалист по атмосфере Замли; Стормер, умерший в 2012 году, специализировался на экологии водных ресурсов. Характер их научных занятий заставил их первыми осознать настоятельную необходимость введения данного понятия в оборот.
Однако пока это слово не имеет официального научного статуса и не будет его иметь в течение нескольких лет. Задача Международной комиссии по стратиграфии, подразделения Международного союза геологических наук, занимающегося датировкой горных пород, – решить, добавлять ли антропоцен как единицу к геологическим временным рамкам, и здесь есть над чем поразмыслить.
Например, в своем определении Оксфордский словарь называет антропоцен “эпохой”, возможно, потому, что лексикографы не понимают, что в геологии термин “эпоха” описывает совершенно иной порядок величин, чем период времени, на котором, по мнению большинства специалистов, антропоцен лучше всего работает. Антропоцен классифицируется как следующая за голоценом эпоха четвертичного периода кайнозойской эры фанерозоя, которая началась около 542 миллионов лет назад с эволюции многоклеточных организмов из отдельных клеток.
Существует также мнение, что антропоцен больше подходит не для описания эпохи, а в качестве названия границы, слоя, отделяющего голоцен от всего остального. На Международном геологическом конгрессе в Южной Африке летом 2016 года 20,5 из 35 членов Рабочей группы по антропоцену проголосовали за то, чтобы назвать антропоцен “эпохой”. За “эру” и “возраст” проголосовали по два голоса, 1,5 за “период” и по одному за “субэпоху” и “нет”; три члена были “не уверены” и четыре воздержались. (Мне сказали, что это было неофициальное голосование, “только, чтобы проверить уровень консенсуса”. Половины представляют собой голос одного члена, который на тот момент колебался между двумя вариантами.)
Рабочая группа также изучает ископаемые доказательства “за” и “против”, большинство из которых являются убедительными “за”. В статье, опубликованной в декабре 2015 года Яном Заласевичем, ее председателем, и Колином Уотерсом из Британской геологической службы, утверждается, что буквально в каждой трещине земной коры были обнаружены пластмассы, выплавленные металлы, новые радиоактивные изотопы и повышенный уровень углерода, а также новые формы горных пород, состоящих из раздавленных игрушек и подгузников и всего прочего, что попадает на свалку.
Окончательное решение, пишут Заласевич и Уотерсом, “будет зависеть не только от предполагаемой пользы присутствия данного подразделения в шкале геологического времени (и для кого оно будет полезно, учитывая широкий интерес к понятию), но и от его геологической реальности. Это сложный вопрос, ответ на который трудно заранее предсказать”.
Никто не спорит с тем, что если что-то происходит и/или уже случилось, то этому следует дать подходящее название. Однако, как считает Кункель, левая критика комплекса антропоцена видит его слишком абстрактным и однородным, слишком обвиняющим человечество в целом в грабеже природы, тогда как на самом деле он совершается в основном определенными классами. Именно поэтому Джейсон Мур и Андреас Мальм предложили термин “капиталоцен”. Донна Харауэй признает, что оба названия имеют тактическое значение в конкретных контекстах, но считает, что ни одно из них не имеет такого содержания, какое необходимо для того, что она называет, после Урсулы Ле Гуин и ее “Теории художественной литературы как сумки”, “отремонтированной сеткой-авоськой”.
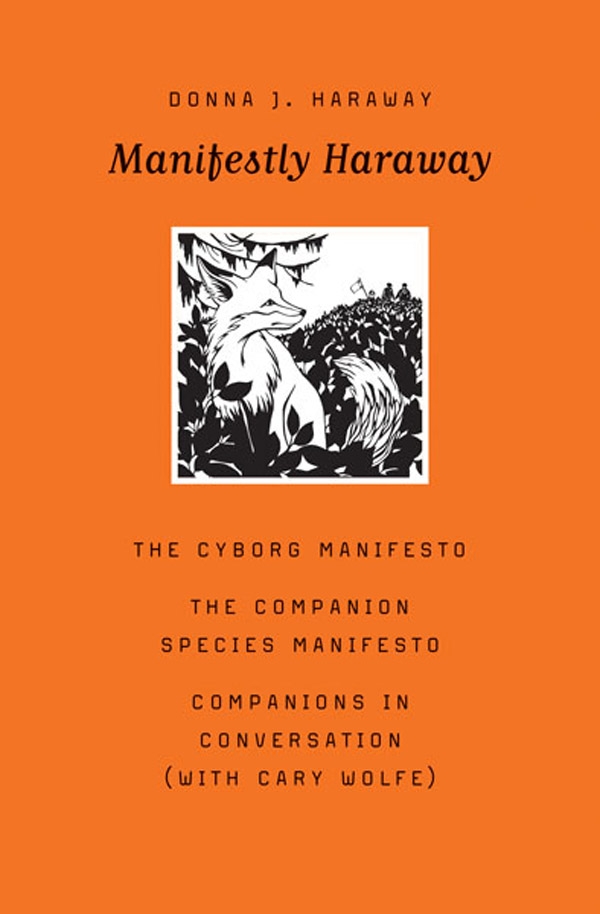
Проблема с антропоценом, как считает Харауэй, заключается в том, что он слишком антропоцентричен. “Человеческая исключительность” этого термина вводит всех в заблуждение в отношении истинной природы проблемы, порождая ответ, который больше говорит о массе людских предрассудков, и очень мало о том, что необходимо делать.
Оптимисты склонны к “наивной вере в технические решения, светские или религиозные: технологии каким-то образом придут на помощь непослушным, но очень умным чадам, или, что равнозначно тому же, бог придет на помощь своим непослушным, но всегда надеющимся на чудо детям”.
А пессимисты еще глупее, с их “странной апокалиптической паникой” и “самоопределенными и самосбывающимися пророчествами”. В любом случае, ни антропоцен, ни капиталоцен не оставляют места для всех остальных видов, с которыми антропос делит общую планету. По мнению Харауэй, это упущение “ограничивает нашу способность воображения и заботы о других мирах”.
Оба термина она предлагает заменить на новый, Хтулуцен, от греческого khthon, “земля”, и kainos, “совершенно новый”: “Кайнос означает сейчас время нового начала, время для продолжения, для обновления… Полноценная жизнь и смерть вместе друг с другом в Хтулуцене может быть настоящим ответом диктатуре и Антропоса, и Капитала”. Она также весьма получает удовольствие от близости своего термина Хтулу к Ктулху, демоническому головоногому монстру из ужасов Говарда Лавкрафта: “Я представляю себе хтонических существ со щупальцами, датчиками, гаджетами, кабелями, хвостами, с паучьими ногами и со всклокоченной шкурой”.
Когда я попыталась изложить мнение Харауэй паре действующих сотрудников научных лабораторий, они отнеслись к нему с презрением. Слова и чувства не имеют значения, важны только данные. Антропоцен, капиталоцен, хтулуцен, вы можете называть это так, как вам нравится.
И они правы, за исключением того, что никто, даже ученые, не живет просто рядами данных: слова и чувства тоже являются факторами. Именно здесь появляется Харауэй и ее критика науки: “Важно, какие мысли мыслят мысли. Важно, какое знание знает о знании. Важно, в каких мирах находится мир”. Вот, например, группа людей, которые говорят об изменении климата. А вот еще одна группа, говорящая об изменении климата, но “так называемом”… Просто еще два слова, плавное смещение нюансов, а последствия могут быть огромными.
Харауэй, которой сейчас за 70, является почетным профессором истории общественной мысли в Калифорнийском университете в Санта-Крус, где она много лет преподавала. Ее докторская диссертация в Йеле была по биологии. Она занималась оболочниками, более известными как асцидии, и которые выглядят как колонии мешочков, соединенных небольшими трубками.
Ей нравилось заниматься тем, что она называла “тварями”, но ей не подходила работа в лаборатории. И у нее была еще одна проблема: она не вполне разделяла веру в фундаментальные биологические понятия, например такие, как клетки. “Я утверждала, что в очень глубоком смысле слова клетка – это наше название процессов, которые не имеют границ, независимых от нашего наблюдения… Дескриптивный термин “клетки” – это сложившееся в истории науки название типа нашего взаимодействия с объектом, а не название вещи как таковой”.
В диссертации Харауэй не нашлось места для такого рода исследований, но она не хотела отказываться ни от “тварей”, ни от биологии как “способа познания мира”. Поэтому она нашла себе нового научного руководителя, великого эколога водных ресурсов Г. Эвелин Хатчинсон, которая помогла ей найти способ заниматься наукой и в то же время критиковать ее.
Витализм, механицизм, органицизм, какое значение имеет для науки то, как ученые представляют себе жизнь? Эта работа выльется в первую книгу Харауэй “Кристаллы, ткани и поля: Метафоры организма в эволюционной биологии XX века”, опубликованной в 1976 году.
Однако Харауэй более известна благодаря статье, опубликованной спустя девять лет. “Манифест киборга”, наряду с романами Уильяма Гибсона “Нейромантика”, является основополагающим текстом для киберкультуры конца ХХ века и киберфеминизма 1990-х годов в частности: “Пока на голубых экранах … продолжали представлять весь мир как непосредственный плод рук белых мужчин, текст Харауэй вызвал волну революционного энтузиазма у женщин в отношении новых сетей и машин”, – писала Сейди Плант в 1997 году в своей оде «Ноли + единицы».
Совсем недавно “манифест Донны Харауэй” был включен Еленой Ферранте в список трех книг, оказавших наибольшее влияние на нее как писательницу (двумя другими были Tu che mi guardi, tu che mi racconti философа Адрианы Кавареро и “Дом лжецов” Эльзы Моранте).
На дворе 70-е: Лену находится в поисках себя, ориентируясь на феминистский канон, Лайла учится по ночам программированию – оба пути весьма показательны в контексте манифеста и того, как “международные женские движения создали “женский опыт”, этот важнейший коллективный объект”, который Харауэй рассматривает как “самое важное политическое изобретение”.
Манифест начинается с утверждения, что технонаука конца ХХ века характеризовалась тремя крупными “прорывами границ” (четвертый – между наукой и техникой, наукой и производством, подразумеваемый под словом “технонаука”). Люди не отличаются от животных, люди и животные не отличаются от машин, и граница между физическим и нефизическим тоже исчезает. Символом этого процесса стал крайне малый размер кремниевого чипа: “Наши лучшие машины… так же трудно увидеть как в политическом, так и в материальном отношении. Они про сознание – или его имитацию”.
Уже в 1980-х годах стало ясно, что эти чудесные машины были более экономичными, чем реальные люди, которые “не были столь же гибкими, оставаясь одновременно материальными и непрозрачными”. Уже в 1980-х годах новые машины съедали рабочие места, жилища, смысл и ценность человеческой жизни, “вызывая огромную боль у людей”.
Но Харауэй наоборот, увидела в этом новом порядке больше возможностей для людей, особенно для женщин, если только они прекратят свою луддитскую антинаучную реакцию и согласятся со своей новой киберприродой. Эти идеи были смелыми, а их “риторическая провокационность”, как верно отмечает Кэри Вульф, еще более смелой. Статья вышла далеко за рамки научных кругов и, как и предсказывал текст, стала “ироничным политическим мифом”.
Спустя восемнадцать лет Харауэй попробовала провернуть нечто подобное с различием человека и животного в «Манифесте о видах-спутниках: собаки, люди и значимый другой» (The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Significant Otherness, 2003). Манифест начинается с размышлений Харауэй о ее межвидовых отношениях с мисс Кайен, – дрессированной, но ныне ушедшей от нас – австралийской овчаркой, которую она до сих пор называет своей любимой собакой.
Продолжается обсуждением симбиогенеза и коэволюции, биоэтики и биополитики, структур, определяющих, что или кто и каким образом будет жить. В сборнике Manifestly Haraway представлены обе эти статьи, плюс длинное интервью с Вульф, в котором Харауэй обсуждает недостатки понятий антропоцена и капиталоцена, и предлагает третье через “Манифест Хтулуцена”, чтобы объяснить, что на самом деле сейчас нужно делать и зачем.
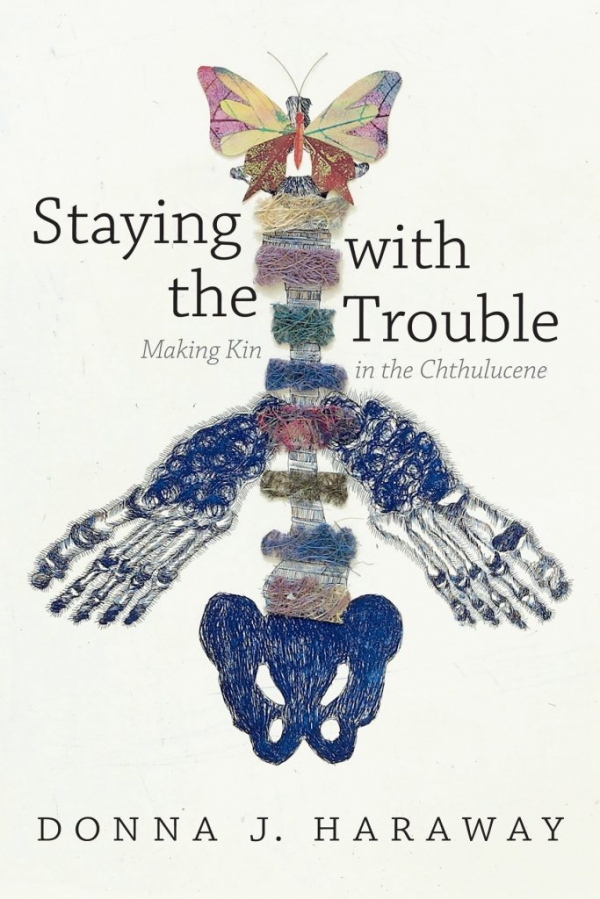
Ни одна из статей, вошедших в книгу “Оставаясь в беде” (Staying with the Trouble), не удовлетворяет этим требованиям, хотя идея Хтулуцена всплывает весьма часто. Другая проблема с антропоценом, например, заключается в том, что он содержит страх надвигающегося апокалипсиса, который Харауэй видит как чудовищное нарциссическое самодовольство. Конечно, сейчас наступило время массового вымирания, и даже самый оптимистичный прогноз на будущее предусматривает вымирание большого числа видов.
Но согласиться с тем, что мы сейчас переживаем то, что многие серьезные фигуры называют «шестым великим вымиранием», не значит провозглашать надвигающийся конец всему. Живой мир как таковой и многие из ныне существующих видов будут существовать и впредь. Астероид, прикончивший динозавров, убил не всех мелких существ. Жизнь на земле ужасно испорчена, но так или иначе она, вероятно, будет продолжаться.
Это вовсе не означает, что люди не нужны. Быть на стороне жуков или роботов против людей – это точно такая же нелепая самоиндульгенция. «Ныне существующие люди» и их «образ жизни и смерти» имеют огромное значение, как для самих людей, так и для «тех многочисленных живых существ изо всего таксономического универсума, которых мы заставили вымирать, подвергали истреблению, геноциду и лишили будущего».
Но чтобы жизнь на земле «жила и умирала, и… жила и умирала хорошо… не без боли и смерти, а без того, чтобы умирать дважды», люди должны одуматься и взять на себя ответственность за это. Именно подобное Харауэй подразумевает под «оставаться в беде» (staying with the trouble) или «трудиться и играть за возрождение мира».
******
Однажды в начале 1980-х годов редакторы журнала Socialist Review из Сан-Франциско попросили Харауэй написать несколько страниц о том, каковы должны быть «приоритеты для социализма и феминизма… в период президентства Рональда Рейгана». Ни социализм, ни феминизм не казались на тот момент достойным ответом на вызов, который предъявил Рейган: «Нужно было умерить наши политические надежду и веру ввиду тех серьезных внутренних проблем, с которыми столкнулось наше движение», – как скажет позже Харауэй.
Она рассматривает свой первый манифест как своего рода интеллектуальную автобиографию, «в которой собрано вместе все, что помогло мне сформировать мое мировоззрение». Она только что перебралась из Джона Хопкинса в Санта-Крус и работала над своей второй книгой «Образы приматов» (тема одной из глав: скрытая мизогиния психолога Гарри Харлоу и его знаменитые эксперименты над обезьянами, до сих пор чрезвычайно часто цитируемые теоретиками привязанности).
Она тогда жила со своим вторым мужем, Растином Хогнесом, и со своим первым, Джеем Миллером, и его партнером, Бобом Филомено, на участке, который они вчетвером вскладчину купили, и помогала медсестре в уходе за смертельно больными сначала Филомено, а затем Миллером. Филомено умер в 1986 году, Миллер пять лет спустя.
Она впервые читала о постструктурализме, деконструкции и так далее, «составляя слова в предложения, не будучи уверенной в том, что получится», и училась работать со своим первым компьютером, Hewlett-Packard. Но она уже была знакома с «плавающими» различиями всех сортов, как и с «потенциальными синтезами и опасными возможностями».
Предстоящая задача, по ее мнению, состояла в том, чтобы «получить удовольствие от смещения границ» и «взять ответственность за их прочерчивание… чтобы постмодернистским ненатуралистическим способом способствовать развитию социалистической и феминистской культуры и теории прямо изнутри утопической традиции, воображающей мир без начала, но, возможно, и без конца».
Наконец, весной 1985 года, сразу после второй инаугурации Рейгана, вышел «Манифест киборга». Другие авторы этого номера Socialist Review писали на предсказуемые темы: «Новая холодная война» или «Переосмысление феминизма и сексуальности». Харауэй сделала нечто иное. «Феминистская и социалистическая теория увязли в безнадежной ностальгии по гомогенной идентичности», – говорится в предисловии к ее статье. «Киборг (получеловек и полумашина) предлагает новый миф о политической идентичности в постмодернистском мире».
В “Манифесте киборга” нет никаких киборгов, если иметь в виду дроидов или Терминатора. Харауэй большая поклонница квир- и феминистской научной фантастики, но она любит ее именно потому, что та не имеет дело с киборгами, как их принято представлять: обычно одинокие, воплощенные в мужчин, закованных во что-то крепкое и сияющее, с торчащими фрагментами плоти и проводов и так далее.
И хотя, я думаю, что Харауэй полностью согласна с Полем Б. (тогда публиковавшимся как Беатрис) Пресиадо в “Тесто-джанки” (2013), что категория цисгендерных гетеросексуальных женщин не может существовать без «фармакопорнографического комплекса», производящего и желание, и гормоны, и одежду и стимулирующие настроение лекарства, из которых она и состоит, ее представление о «киборг-идентичности» значительно глубже.
«Киборг – это конденсированный образ одновременно воображения и материальной реальности, два объединенных центра, структурирующих любую возможность исторических преобразований… Киборг – наша онтология: он предоставляет нам нашу политику».
«Манифест киборга», таким образом, сам по себе киборг. Это строго научная статья, которая одновременно является полемическим памфлетом, наполненным идеями, которые сегодня, тридцать лет спустя, выглядят абсолютно современно. Речь в нем идет и о машинах, и о механизации, и о «Звездных войнах» обоих видов, и, в отличие от большинства гуманитарных кибертеорий, манифест написан автором, имеющим естественнонаучное образование; речь идет также о феминизме и женском движении в непростые для него времена.
Социалисты и феминистки нужны и полезны, считает Харауэй, только если они покончат со взаимной враждой и размежеванием. Но для этого им нужно выбросить на свалку устаревшие гуманистические идеи о единстве, чистоте и так далее. Мы все на самом деле просто киборги, беспорядочно лязгающие ассамбляжи, составляющие сети, суть которых выходит за рамки нашего понимания. «Неясно, что такое сознание и что такое тело… Между ними нет фундаментального, онтологического разделения».
******
И все же, киборги не могут существовать вне времени, которое их создало. Кибернетика, и дисциплина, и ее название, появилась в США в конце 1940-х годов, где ее использовали для описания исследований саморегулируемых информационных систем, а ее финансирование осуществлялось за счет военной разведки и разработок оружия.
Сама Харауэй, по ее словам, «католичка эпохи Спутника», – представитель первого поколения выпускников университета из ирландской семьи, образование которой было оплачено в соответствии с американским законом об образовании от 1958 года, принятым из соображений национальной обороны. Но, как и многие представители ее поколения, она не превратилась в солдата холодной войны, а стала активисткой и учёным левых социалистических и феминистских, про-квир и антивоенных убеждений.
“Из одной перспективы, мир киборгов – это про окончательное установление сетей контроля над планетой, нашедшее воплощение в апокалипсисе «Звездных войн» во имя национальной обороны, про окончательное присвоение женских тел в маскулиннной оргии войны… [Но с другой], мир киборгов может быть про связь с живыми социальными и телесными реальностями, в которых люди не боятся общих черт с животными и машинами, не боятся устойчивых фрагментарных идентичностей и противоречивых установок. Политическая борьба означает видеть сразу из двух перспектив”.
Неудивительно поэтому слышать аргументы в стиле киборгов одновременно в разных областях. Один из них онтологический, связанный с идентичностью и сущностью. Если женщины действительно являются киборгами, гибридами организма и машины, значит, все то, что было в 1980-х годах, Женщина, Богиня Природы, было полной чепухой. Женщины обладают “моральным превосходством, невинностью… близостью к природе”, не более чем мужчины.
Их природа на самом деле не особенно невинна или близка к самой природе. Многое из того, что кажется непонятным при первом прочтении манифеста, скоро становится ясным, когда вы понимаете, что Харауэй пытается обратиться к фем-эксклюзивному радикальному феминизму Адриенны Рич, Андреа Дворкин и других широко известных авторов 1980-х, немного отстраняясь от них и стараясь никого не обидеть.
Однако она все-таки жалуется на “растущий антинаучный культ в среде представителей несогласных и радикальных политических движений” и в заключении громко заявляет, что она “лучше будет киборгом, чем богиней”.
Дело не в том, что по ее мнению только у социалистов есть ответы. Они лишь разменивают сущностное классовое единство и солидарность на сущностное гендерное единство и солидарность, тогда как на самом деле им нужно вообще отказаться от идеи сущностного единства и солидарности.
Не в последнюю очередь потому, что ни в одной наличной модели нет места для трудного политического ангажемента цветных женщин, кроме как второстепенной задачи; в то время как по Харауэй именно с подобных трудных политических позиций должна начинаться политика.
«Новый политический голос от имени цветных женщин», – пишет она, – «теоретически сформулировал внушающую надежду модель политической идентичности под названием “оппозиционное сознание”. Он родился из навыков восприятия сетей власти теми, кто отказывается быть устойчивым членом социальных категорий расы, пола или класса». Это «пространство, построенное на самосознании», «сознательное присвоение отрицания», полностью киборгианский способ управления миром киборгов.
Если вы имеете дело с политикой в эссенциалистских понятиях, то все, что вы можете сделать, это переставлять расу, пол, класс, что угодно, на доске в различных конфигурациях. Отбросить сущностную идентичность, принять факт, что как таковой ее не существует, и тогда можно «действовать на основе сознательной коалиции, близости, политического родства».
Манифест также направляет взгляд киборга вовне, на экономику и мировую историю. Харауэй считает, что индустриальный капитализм сменяется тем, что она называет «полиморфной информационной системой», в которой традиционные границы между «домом, работой, рынком, публичной сценой и самим телом» «перерассредоточены и перевзаимосвязаны».
Эта новая промышленная революция привела к появлению «нового мирового рабочего класса, а также новых сексуальных и этнических групп». Все созданные ею новые рабочие места были искусственно «феминизированы», независимо от того, создавались ли они для женщин или мужчин.
Под «феминизированный» Харауэй понимает «чрезвычайно уязвимый, способный быть разобранным и собранным вновь; эксплуатируемым в качестве резервной рабочей силы; воспринимаемый не столько как рабочий, сколько как служащий; вынужденный трудиться на временной работе, представляющей собой насмешку над ограничением рабочего дня; ведущий к существованию, которое всегда граничит с непристойностью, неуместностью и сводимостью к половым характеристикам».
В качестве примера «реальных киборгов» она приводит женщин, работающих на фабриках электроники в Азии, «активно переписывающих текст своих тел и обществ» как таковых. Безработица и угроза увольнения, в то же время весьма эффективны, когда речь идет о «феминизации» – не то слово, которое я бы подобрала на автомате, – мужчин.
Многое из того, что казалось новым в 1980-х годах, теперь стало, как сказала бы Харауэй, «обыденным»: временная занятость, нулевой контракт, все более стирающиеся и неуправляемые границы между досугом и работой. Крах профсоюзов, либеральная демократия, государство всеобщего благосостояния, общественная жизнь в целом заменены на «крайне биполярную социальную структуру».
Даже – или в особенности? – «новые коммуникационные технологии» рядом с кроватью и в гостиной, которые полностью разрушают различие частного и публичного: игры, «крайне ориентированные на… уничтожение планеты», предоплаченные фантазии игрока, демонстрирующего «научно-фантастический способ избежать негативных последствий».
«Но не нужно, – считает Харауэй, – уходить в депрессию». Два основных урока могут, если мы их выучим, сдвинуть баланс в сторону надежды.
Во-первых, «универсальная тотализирующая теория – это большая ошибка, которая пропускает большую часть реальности, возможно всегда, но в особенности сейчас»: больше никаких «идентификации, авангардных партий, чистоты материнства», никакой «унитарной идентичности» или «антагонистического дуализма» (я/другой, разум/тело, природа/культура).
Во-вторых, наука и техника не являются врагами, но, вероятно, помогут нам найти «выход из лабиринта». И если, как и я, ты никогда не изучал математику и естественные науки, когда был моложе? Ну, это твоя обязанность – наверстать упущенное.
Эти уроки тесно связаны с идеями Харауэй. Дуалистическое мышление – среди других ее примеров цивилизованное/примитивное, правда/заблуждение, целое/часть – это просто привычка западной культуры, один из способов организации информации, полезный в условиях, в которых он полезен, и бесполезный, когда таких условий нет.
Однако твари в него никак не вписываются, и нам тоже не стоит этого делать. «Одного слишком мало, а двое остаются единственной возможностью… Мы отвечаем за границы; мы – это они и есть».
К примеру, что касается воспроизводства, то она рассматривает секс как всего лишь одну стратегию среди многих. Скучная старая “репродуктивная матрица” сперма-встречает-матку сравнивается с “монструозными, дублицирующими, могучими” возможностями регенерации у рептилий. Говорят, что то, что делают киборги, имеет много общего с “прекрасным репликативным барокко папоротников”. Цель – “знание, настроенное на резонанс, а не на дихотомию”. “Нужно думать не о существенных свойствах, а о дизайне, структуре ограничений, скорости процессов”.
Харауэй, конечно, не была единственной мыслительницей своего поколения, которая так глубоко закопалась во внутренности западной философии. Но ракурс, который она привносит, необычен и захватывающ, характерная для киборгов комбинация интеллектуальной изощренности и просторечия. Вот, например, что она пишет об Эдипе и в целом психоанализе: “Пост-эдипальный – это один из способов поговорить об этом, хотя я хочу вообще отказаться от ссылки на Эдипа… Меня бесит, что наши психические детерминанты каким-то образом всегда должны возвращаться к привычной семейной сцене”.
Держись Эдипа, и ты застрянешь на двух полах и парадигмой нуклеарной семьи, со всеми ее неврозами и потребительским расточительством. Любовь, по опыту Харауэй, склонна не растворяться в таких мелочах. Другие тоже могут обнаружить, что она становится только богаче, если дать ей свободу.
Харауэй никогда не называет себя кибер-феминисткой – она ненавидит, когда ее считают “блаженной технозайкой”. Она не выносит идею пост-человека, которую находит “абсурдной”. И она не стала бы называть свою работу пост-гуманистической, хотя и признает, что она “и в альянсе, и в конфликте” с теми, кто употребляет этот термин.
Но ничто из того, что говорит Харауэй, не остановило кибер-феминисток, пост-гуманистов, акселерационистов и технозаек всех мастей от того, чтобы назвать ее заслуженной предшественницей, вышедшей на пенсию: как это совсем недавно сделали авторы сверхоптимистического “Ксенофеминистского манифеста” (девиз: “Если природа несправедлива, изменим природу!”).
Как отмечают сами ксенофеминистки, манифесты являются хорошим местом для того, чтобы найти бросающиеся в глаза проявления “максимальной либидинальной вовлеченности” и полностью предаться онлайн-обмену. Тем не менее, у них есть тенденция оставаться “скупыми до нюансов”, а также они могут выглядеть слегка по-хипстерски, ориентируясь на вкусы узкой тусовки, как если бы какой-то предмет на витрине торговой галереи вас настолько бесит, что вы никогда не перейдете ее порог.
******
Возможно, это одна из причин, почему второй манифест Харауэй полностью лишен яркого и напористого стиля ее первого манифеста, он стал более спокойным и расслабленным. В нем можно найти массу анекдотов и выписок из дневников, а также ужасных собачьих метафор: “собачьи бои” и “лохматые истории” и “я с радостью обращаюсь к собакам, чтобы изучить рождение стада” и так далее.
Там есть фотография прекрасной мисс Кайен, прыгающей через покрышку; на другой мисс Кайен играет с собакой по имени Виллем де Кунинг. Целые страницы посвящены заметкам о дзене или искусстве собачьей дрессировки. Есть фотография Виллема с Марко, человеческим крестником Харауэй, который также является “крестным сыном Кайен”, а она – “его крестной собакой”. Как Харауэй в одном месте пишет: “Гав”.
С самого начала “Манифест о видах-компаньонах” сбивается с пути, представляя собой немного старомодный и бестолковый, но полный страсти текст, полярная противоположность ледяному спокойствию киберпанка: это труд негламурной белой женщины среднего возраста после менопаузы, которая уже едет с ярмарки. Кроме того, то, как он представляет своего автора, выглядит немного неудобно.
Она позволяет мисс Кайен целоваться с собой вместе с языком. Что это – сексуальное домогательство собаки, пример стадной психологии или просто азартная игра? Неужели это что-то настолько тонкое и особенное, что нам трудно подобрать слова? (“Мы дрессируем друг друга, едва понимая, что делаем”).
Позже Харауэй наблюдает за тем, как Кайен играет с Виллемом де Кунингом, когда она “залезает своими гениталиями поверх его головы, носом при этом тычет ему под хвост, прижимает его тело к земле и начинает энергично махать задницей. Я имею в виду, жестко и быстро”. “Онтологическая хореография” – термин, который придумала Харауэй. “Они придумали эту игру; эта игра их перевоспитывает”.
Виды-компаньоны, как говорит Харауэй, “cum panis вместе за одним столом… те, кто готов на риск ради друг друга, кто является его плотью”. Термин применим не только для собак, но для любой формы жизни, с которой человек делит планету: “рис, пчелы, тюльпаны, кишечная флора все, что делает жизнь человека тем, чем она является, и наоборот “, не говоря уже о киборгах, о которых Харауэй теперь говорит о “как младших братьях и сестрах”, членов “гораздо большей и причудливой семье”: “Я вижу, как собака создает новую ветвь феминистской теории, и наоборот”.
Однако признание других видов в качестве наших компаньонов – это признание большей и более серьезной ответственности, чем мы привыкли брать на себя. “Как можно научиться этике и политике, направленной на процветание значимой инаковости, если всерьез относиться к отношениям между собакой и человеком?” Таков, например, межвидовой контакт между Кайен и автором. Иногда случается, что гены передаются через вирусы воздушно-капельным путем от животных к человеку и наоборот.
Это происходит при свином гриппе, это происходит при птичьем гриппе, и вполне возможно, дразнит нас Харауэй, что что-то из генома Кайен застряло в ней. Это, как она говорит, является основным механизмом того, что эволюционные биологи называют симбиогенезом – различные формы жизни заражают друг друга, и появляются новые. Бактерии и археи, например, начали сливаться в протерозое, дав начало многоклеточным организмам.
Существа соприкасаются друг с другом, оставляя “молекулярные записи”, среди прочих следов. Как метафорически, так и на самом деле, партнерство Кайен и Донны означает “мерзкую инфекцию развития во плоти, под названием любовь”.
После “Манифеста видов-компаньонов” мир киборгов Харауэй начинает выглядеть очень маленьким. Вся техническая деятельность формирует только одно небольшое подмножество существ, которое Харауэй теперь называет “естественными культурами” и изучается дисциплиной, которую она называет “биотехнополитикой” и который занимается процессом, который она иногда называет “геоэкоэводевоистотехнопсихосимпоэзисом” – это “имя игры жизни на Земле”. Другой игры нет. Это период” – а иногда и “свет жизни”.
Тем не менее, основная часть “Манифеста видов-компаньонов” действительно посвящена собакам и взаимоотношениям между собаками и людьми. История эволюции прослеживается по всей собачьей диаспоре: австралийские овчарки, пиренейские горные, шотландские колли.
“Цветущее разнообразие пород” “нынешнего мира собак” одновременно и ценится и подвергается критике: манифест особенно позитивно настроен в отношении “расово окрашенных, сексуально насыщенных, классово-исполненных и колониальных” сетей, созданных фондом Save-a-Sato в Пуэрто-Рико, который подбирает с улиц бродячих собак и отвозит в тщательно отобранные “семьи” навсегда в США. Вместо специального совка для сбора собачьих экскрементов Харауэй предпочитает использовать “пластиковую пленку – подарок научных империй химической индустрии – в которую упаковывают мою утреннюю “Нью-Йорк Таймс””.
Харауэй старается не идеализировать отношения, которые она описывает как “не особенно приятные” и “полные расточительства, жестокости, безразличия, невежества и утрат”. Она не любит, например, современную привычку обращаться с собаками как с пушистыми детьми – она считает это оскорбительным и потенциально вредным для обеих сторон – и даже более того, она не переваривает представление о домашних животных как эмоциональных грелках, “ласковых рабах, короче говоря”.
Она отнюдь не борец за права животных и не относится к тем, кто верит в абстрактную систему прав животных. Вместо безусловной любви, которая, по ее мнению, является “весьма редко оправданной невротической фантазией”, партнерские отношения между человеком и животными устанавливаются гораздо лучше, когда они исходят из “аккуратности, внимания, честности и уважения”.
Не бывает никакой настоящей любви или идеальной дружбы ни у каких видов вообще. Всегда лучше рассчитывать на терпение в “непрерывном познании интимного мира другого, совершая смешные или порой трагические ошибки”.
Но большинство тварей, которых держат люди, отнюдь не наслаждаются подобным партнерством, а просто выживают, брошенные и нелюбимые. Агрофермы и опыты над животными – “огромные машины по насильственному разведению жизни ради извлечения прибыли… возможно, самый большой источник насилия на нашей планете” – об этом можно немного найти в “Манифесте видов-компаньонов”, но они фигурируют в книге “Когда виды встречаются”, опубликованной вскоре после него.
В этой книге она рассуждает о курах, лабораторных крысах и человеческой плаценте, а также высказывает несколько предположений о том, о чем Деррида должен была думать, стоя голым на глазах своего кота. И о них также идет речь в пространном интервью, которое составляет третью часть Manifestly Haraway.
Что нужно понимать про “антидискриминационную биополитику”, – говорит Харауэй, – что нет смысла в попытках обосновать ее на абстрактной любви или заботе о животных или природе или жизни в целом. Это не получится, во-первых, как отметила Дженни Диски в книге “Чего я не знаю о животных” (What I Don’t Know about Animals, 2010), людям нужно что-то есть, и даже Элизабет Костелло[1] носила кожаную сумочку, и по любому вегетарианство скучно и похоже на религию.
Хуже того, оно слишком сентиментально – как и пролайферство, с которым Харауэй проводит параллель – и зачастую становится прикрытием для жестокости (принуждение женщины к рождению ребенка, о котором она не уверена, что в состоянии позаботиться; принуждение к жизни ребенка, которого никто не хочет).
Чтобы нынешняя численность человечества продолжала жить в нынешних условиях, мы должны продолжать убивать зверей и более мелких тварей, и мы будем продолжать делать это многие и многие годы, даже если все мы вдруг завтра проголосуем, за то, чтобы в глобальном масштабе заставить всех есть эрзац-мясо.
Меньшее, что мы можем сделать, это быть честными с самими собой по данному вопросу, и проявлять максимум скрупулезности, когда мы выполняем ужасные обязанности, которые подобное положение дел возлагает на наши плечи. “Как мы можем на самом деле оставаться неневинными, хотя я действительно думаю, что мы должны быть именно таковыми?”
Говоря о “неневинности” Харауэй ссылается на свой детский опыт посещения римо-католической церкви, “когда я впервые в семилетнем возрасте вкусила плоть Иисуса”, и который произвел на нее “сильное впечатление”. С этого сакрального момента она поняла, что “семиозис и плоть являются – чем? – нет, не одним и тем же, но и не двумя разными вещами… Не то, чтобы что что-то манифестировало себя в чем-то другом на каком-то уровне глубже, чем символ. Здесь скорее речь идет о структуре радикальной идентичности/не-идентичности, здесь есть некая структура более радикальной не-идентичности”.
Когда Харауэй говорит о животных, кажется, что она говорит и о людях. Хотя говорить о животных – это действительно в некотором смысле говорить о людях, потому что только люди говорят. Я не думаю, что Харауэй будет это отрицать. Но она также настаивает на том, что животные не могут сводиться к вместилищам или аналогии для человеческих значений, “суррогатам для теории”: “Собаки – они не про себя. В этом и есть прелесть собак. Они не являются ни проекцией, ни воплощением намерения, ни целью чего-либо”. “Собаки – это воплощенное материально-семиотическое присутствие в теле технонауки”. “Это и есть собаки”.
******
Тексты, вошедшие в сборник “Оставаясь в беде”, переполнены примеров разного геоэкоэводевоистотехнопсихо: вот PigeonBlog – блог о гоночных голубях с маленькими GPS-трекерами. А вот мисс Кайен, уже старая и страдающая недержанием – ветеринар ей прописывает ДЭС, пресловутый тератогенный синтетический гормон-эстроген; примерно в то же время автору книги, человеку мисс Кайен, прописывают премарин, гормональный коктейль из мочи беременных лошадей.
Вот Харауэй пишет о лингвистических сетях между агентами растительного и животного мира, о научной фактологии и научной фантастике. А вот забавный фантастический рассказ о Камилле, ребенке, родившемся в одной из общин международной сети “Дети компоста”, которая, согласно сюжету, начала набирать популярность к концу эпохи Великого сглаживания – то есть сейчас. (Термин “Великое сглаживание” позаимствован из романа Кима Стэнли Робинсона “2312”).
“Компост” – одно из слов, которое Харауэй предпочитает “пост-гуманизму”, “пост-капитализму” и т.д., используя его для обозначения парадигмы восстания-из-руин, в которой она работает. Она произносит это слово с длинным “о” и ударением на втором слоге, ком-пост. В общем, “Дети компоста” расселяются небольшими группами вокруг наиболее сильно пострадавших мест на планете, по мере того как земля регенерируется, популяция людей сокращается.
Детей рождается немного, а большинство из них имеет, по меньшей мере трех родителей, любого или сразу всех полов, и генетически они сконструированы так, чтобы нести симбионт животного: в случае с Камиллой – бабочку-монарха. Со временем общины добиваются того, чтобы численность людей на планете сократилась примерно на две трети.
Чисто эстетически подобное может быть трудно принять. Харауэй никогда не была автором-минималистом: “Я всегда… полагала, что для обозначения одной вещи одного слова не достаточно”, – признаётся она, добавляя, что её обвинил в “синдроме кухонной мойки”[2] ни кто иной как сам Бруно Латур. Помимо Хтулуцена и компоста, в последней книге появились новые термины, в том числе “непривычных родственник” (oddkin)[3] и “фигуры из ниток” (string figures)[4] и др.
Я понимаю, зачем Харауэй все эти словечки. Они отражают материально-семиотическое единство, в частности свойство аккумулировать. Каждое слово добавляет новую деталь, грань, нюанс, отражение к бесконечно детализированной реальности во множестве ее нюансов. И вот она волосатая, комковатая, нечеткая, ощетинившаяся, бесконечная. Может быть, даже со щупальцами, или как в одном месте Харауэй предложила, может быть она – “решетка”, на которую можно было бы прикрепить канаты проблем и начать их решать.
Главный практический совет, который можно услышать от поздней Харауэй, насколько радикален, настолько же и пугающ. Людям нужно прекратить заводить детей по нуклеарным семейным ячейкам, потому что единственный способ, которым люди могут помочь обеспечить достойное будущее для планеты, – это заставить их сократить свою численность. А лучший способ этого достичь – распространить ответственность за воспитания детей на как можно большее число взрослых, а не на двух родителей.
Как пишет Харауэй: “Заводите родных, а не младенцев!” Она признает, что весьма немногие люди даже “будучи левыми или под каким бы то ни было названием, которое мы пока еще можем использовать, чтобы нас не хватил удар” готовы к тому, чтобы не отворачиваться от вопроса о населении. Это слово фатальным образом исторически запятнано “нео-империализмом, неолиберализмом, мизогинией и расизмом”. “Но отрицание не послужит нам службы… Хватит перекладывать ответственность на капитализм, империализм, неолиберализм, модернизацию или на что угодно, лишь бы “не на нас” за продолжающуюся катастрофу, связанную с численностью населения”.
Но также ей очевидно, что реализация ее предложений предполагает не какое-то “принуждение”, а постепенное установление “новой нормы” на протяжении многих поколений. На эти идеи Харауэй отвела всего пару страниц, как будто она сама не вполне уверена в том, что говорит.
******
“Я рыдала, когда писала это (!)”, – географ Софи Льюис опубликовала в твиттере такую запись, комментируя ссылку на свою критическую в отношении Харауэй длинную статью на онлайн-ресурсе Viewpoint Magazine. Харауэй, объясняет Льюис, когда-то была для нее настоящим героем – “профессиональный биолог, который анализирует паутину жизни на земле… и одновременно разделяет революционную жажду свободы”; который “глубоко озабочен”, в частности в “Манифесте киборга”, “тем, как человечество, проникая везде, покрывает все бесславием… и желает нам постгендерного коммунизма”.
Но статьи, собранные в ее последней книге, как представляет Льюис, выполняют “решительный поворот к примитивизму”, и “аполитичному”, “этноцентричному” и удручающе небрежному “мизантропическому популяционизму”, (“Короче говоря, Харауэй безответственно распространяет расистский нарратив”).
С одной стороны, Льюис оплакивает дрейф Харауэй, как она пишет, от человеческого пластичного, динамичного и неистового “киборгизма” – к смутному хиппиподобному “межвидовому феминизму”. А с другой стороны, за бесспорно грубое обращение с материалом. Харауэй, пишет Льюис, наивно верит в будущее, в котором за пару столетий численность людей сократится с одиннадцати до двух или трех миллиардов: “Хотелось бы увидеть объяснение, как исчезновение восьми миллиардов человеческого поголовья… может быть непринудительным – не напоминающим на самом деле геноцид”.
Как и некоторое обсуждение, например, “политике границ и дискурсе о народонаселении”, как некоторое признание, возможно, “уже идущей классовой борьбы” со стороны активистов “за аборты, права матерей-одиночек и суррогатных родителей”. Харауэй, следует сказать, действительно упоминает “расовые фантазии о чистоте” и о том, что “страх перед иммигрантами – это большая проблема”, но только вскользь. Льюис не считает, что этого достаточно, или достаточно, чтобы противостоять всеобщему антигуманистическому настроению.
Льюис также обратила внимание на один момент, который я пропустила. В частности, что касается игры слов Хтулу/Ктулху: “Из беглого знакомства с исследованиями по лавкрафтианской литературе следует устойчивый консенсус, что миф о Ктулху был (и остается) навязчивой мечтой о геноциде и расизме”, и если Харауэй употребляет это слово – “то это неудачная шутка; ошибка в употреблении, которая также немного шокирует”.
Я не знала о Кутулху, но теперь знаю, и я тоже в шоке. Я также не знала, что в реальных Гоули Маунтин в Западной Вирджинии, место действия “Детей компоста” Харауэй, обосновались художницы-перформансистки и секс-педагоги Энни Спринкл и Бет Стивенсон[5], что “предположительно представляет именно их в качестве образца тех самых “компостистов””. Так что рассказы Камиллы увидели свет в качестве скрытой шутки об экосексуалах. Ох, ты ж…
Однако в своей книге Харауэй выразила надежду на то, что проект “Дети компоста” выйдет далеко за рамки подобных унылых начинаний. “Все рассказы Камиллы, которые я сочиняю, обязательно будут включать ужасные политические и экологические ошибки, – заявила она, – и в каждом рассказе я будут требовать от читателей относиться к тексту с подозрением и тем самым включаться в борьбу”.
На момент подготовки своей книги Харауэей, казалось, видела будущее проекта в качестве “коллективного цифрового мира для игр и публикации рассказов… реализации дизайнерских проектов, публикации изображений, анимации… историй и критики”. Пока что Харауэй подтверждает, что это скорее “план, а не реальность”. И если он когда-нибудь взлетит, то я надеюсь увидеть, как на нем займет почетное место текст Софи Льюис с открытой после себя веткой комментариев.
Потому что существует и другой способ взглянуть на проект “Дети компоста”, и на книгу “Остаться с проблемой” в целом. Может быть, Харауэй сейчас намного старше, чем была раньше, и несколько отдаляется людской суеты, которая с возрастом кажется куда более назойливой, чем животные и растения? И если да, то не является ли это попросту типом довольно распространенного образа жизни среди “человечества, которое проникая везде, покрывает все бесславием”, и в качестве такового является просто еще одной формой поведения людей, с которой гуманисты будут вынуждены считаться?
Мне кажется, что Харауэй вероятно, будучи настолько прозорливой, насколько это возможно для автора, сама понимает что то, что она может предложить в данный момент, и близко не является тем, чтобы помочь нам со всеми теми “бедами”, с которыми нужно иметь дело. Все, что она может сделать, и как кажется она именно это и утверждает, это остаться с ними некоторое время, беспокоясь о самих границах ее возможностей, а затем передать их дальше.
“Нам нужна поддержка друг друга в ситуациях риска, как в конфликтах, так и в сотрудничестве, таков вызов времени”[6], – вот как она заканчивает эту печально известную двухстраничную сноску. И, как она выразилась, “думаю, мы должны отвечать доверием на протянутую нам руку”.
Примечания
Статья представляет собой рецензию на выход в свет следующих книг: Manifestly Haraway: ‘A Cyborg Manifesto’, ‘The Companion Species Manifesto’, Companions in Conversation (with Cary Wolfe) by Donna Haraway. Minnesota, 300 pp, 2016 и Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene by Donna Haraway. Duke, 312 pp, 2016.
[1] Элизабет Костелло – персонаж одноименного романа южноафриканского писателя-нобелевского лауреата Джона Кутзее. Элизабет Костелло в романе – известная писатель в возрасте, которая путешествует по разным странам и выступает с лекциями, в том числе и о значении жизни животных. – Прим.пер.
[2] См. термин “драматургия кухонной мойки”, для которой характерно пристальное внимание к бытовой стороне жизни обывателя. – Прим. пер.
[3] “”Заводите родных, а не младенцев!” – это о том, чтобы заводить непривычных родственников (oddkin), включая сюда и переосмысление повседневных интересов человека” (р. 216-217). – Прим. пер.
[4] “Я использую термин фигуры из ниток (string figures) в тройном смысле. Во-первых, беспорядочно вытаскивая волокна из плотных сгустков событий и практик, я стараюсь узнать, куда ведут нити, чтобы понять, как они спутаны и изучить их узор, что имеет решающее значение для того, чтобы оставаться с проблемой в реальном конкретном месте и в определенное время. В этом смысле фигуры из ниток являются методом отслеживания, преследования по нити в темноте, настоящими приключениями, полными опасностей, ради изучения того, кто как живет и как умирает, и того, что необходимо знать для установления межвидовой справедливости.
Во-вторых, фигуры из ниток – это не столько отслеживание, сколько реальная вещь, образец и конструкция, которая требует выяснить, как она собрана, вещь, которая существует не сама по себе, но от которой нельзя так просто избавиться. В-третьих, фигура из ниток – это передача и получение, создание и разложение, собирание нитей и их сбрасывание. Фигуры из ниток – это практика и процесс; это становление-с-каждым в удивительных отношениях; это фигура для того, чтобы двигаться вперед в эпоху Хтулуцена” (p. 3). – Прим. пер.
[5] См. автобиографический документальный фильм “Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story” (2013), посвященный борьбе пары художников-экосексуалов Бет Стивенс и Энни Спринкл за сохранение экологии гор Западной Вирджинии. Художница Спринкл и ее партнер Стивенс, профессор истории и теории искусства университета Санта-Круз, являются сооснователями движения так называемых экосексуалов. – Прим. пер.
[6] Примечание 18 к 4 главе. – Прим.пер.

Источник: Lrb