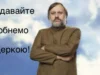Примерно года с 2010-го, чуть погодя после субпраймового кризиса, его растекания по всему миру и превращения в кризис не связанных с финансами индустрий, спасения «слишком больших, чтобы упасть» банков государственными деньгами, в мире началось что-то новое, не вписывающееся ни в одну из ранее концептуализированных или позже рожденных культурных логик.
1.
Постмодерн для характеристики этой эпохи не подходит: во-первых, он был провозглашен завершенным, во-вторых, несмотря на всю свою иронию, господство ризом и бриколажей, тотализирующую деконструкцию и детерриторизацию, все же было понятно, что он такое и какие (пусть безумные!) правила он вводит. То есть, постмодерн в силу своей пусть дикой, но все же последовательности и непрерывности, был доступен о-пределению, то есть помещению в пределы, с ним можно было работать, не выходя особо за рамки обычного философского инструментария, разве что иногда менять скальпели на пилу или рубанок.
Точно так же нельзя удовлетвориться модным словечком «метамодерн». Внедренное Тимотеусом Вермюленои и Робином ван Аккером, это слово нынче претендует на звание культурной логики современности, хотя на практике означает всего лишь парадоксальный ход: для того, чтобы преодолеть противоречия и неконструктивность постмодерна, метамодерн делает шаг назад, возвращаясь к модерну, но делает его не полностью, а сочетая в осцилляции искренность модерна с иронией постмодерна. Но не по этой причине я отказываюсь дать имя метамодерна нынешней эпохе. Признавая наличие метамодерных тенденций везде — от современного искусства и архитектуры до политики, я констатирую, что они всего лишь один из эпизодов в бриколаже современности — наряду с пост-модернизмом, гипер-модернизмом и всеми остальными приставками к модерну, что бы они ни означали. Метамодерн выглядит как частность в этом нестройном хоре.
Наконец, не устраивают и технические определения: поздний капитализм (а тот, который придет за ним, если верить Шумпетеру, с полной необходимостью, будем звать поздний-поздний капитализм?), зрелый капитализм, набившее оскомину постиндустриальное общество и даже фишеровский капиталистический реализм. Технические определения, замешанные на капитализме, не отражают в полной мере сути эпохи: они схватывают только экономический аспект нашей жизни, что по отношению к постсубпраймовой эпохе 2010-х и тем более 2020-х совсем несправедливо: разумеется, капитализм незримо присутствует в каждом нашем действии, в каждом нашем желании слышится его учащенное дыхание. Но в течение последнего десятилетия наряду с ним политические, даже геополитические, военные, пандемические факторы стали играть большую роль, конкурируя и даже бросая вызов капитализму. И хоть он одерживает тактические победы (это хорошо видно по наличию западных деталей, вроде бы подсанкционных, в ракетах российского производства), игнорировать политическое (во всех значениях — в том числе, и шмиттеанском!) уже не получится.
Так родилось рабочее понятие flash-модерна, названного так не только потому, что дискретность бытия и всех жизненных проявлений достигла своего пика, знания распространяются и усваиваются во фрагментированной форме, а политические намерения не доживают не то, что до следующих — до текущих выборов, будучи забываемыми в момент занятия счастливым победителем обожаемого кресла. Flash-модерном нынешняя эпоха может быть названа еще и потому, что все, назначенное судьбой работать, либо не работает вообще, либо работает со сбоями. Действия, к которым мы привыкли и от которых не ожидали какого-то странного (weird) эффекта, либо не происходят вообще, либо происходят с непредсказуемыми последствиями. Это относится прежде всего к политическим институтам, но и экономика, и культура преподносит примерно те же сюрпризы.
2.
Начнем с метанарративов. Поскольку это главное различение, введенное Лиотаром для модерна и постмодерна. Постмодерн, говорил Лиотар, отличается недоверием к метанарративам. Заметим — недоверие не означает отметания. Сегодня метанарративы не воспринимаются большинством населения планеты — просто ни у кого нет сил дослушать/досмотреть, о чем они говорят. Зато их осколки щедрой россыпью разлетелись по неограниченным просторам социальных сетей. Flash-модерн — нарратив, который все так же требуют новизны, но обновляются слишком часто. Бесконечно рождающиеся, но не умирающие субнарративы заменяют метанарратив бесконечным потоком субнарративов, твиттер-лентой новостей, в которую превращается наша жизнь. Дискретность дискурса превращается в бесконечный поток дискретностей. Зачем длительный метанарратив, зачем великое воображаемое, если его можно заменить потоком?
Этот поток — поток копий. Сам Келли пишет об этом так:
«Фактически наша цифровая коммуникационная сеть спроектирована так,
что копии передвигаются по ней с минимальным возможным сопротивлением.
Они перемещаются настолько свободно, что мы можем начать воспринимать интернет как сверхпроводник, где копия, которая однажды попала в интернет,
будет перемещаться в сети вечно, как электричество в сверхпроводящем проводе.»[2]
Тут парадокс, поскольку модерн в своей сути есть запросом на новое. Постоянным, гнетущим, императивным запросом. Современный поток, поток копий одного и того же, интерпретирует запрос. Это совсем не тот поток, о котором говорит Лао-Цзы. И уж совсем не тот поток, о котором говорит Делез. Это стандартизированный, унифицированный поток. Только он унифицирован по принципу новизны и уникальности. Чтобы стать частью однородного потока, линейного ряда, тебе не нужно уже следовать традициям, образцам и лекалам. Чтобы стать частью этого потока, тебе нужно стать незаурядным, отличающимся, наслаждающимся различием. И в то же время от тебя не требуется чего-то нового. Точнее, требуется на уровне создания, но не как барьер вхождения в поток. Механическое копирование несхожести и помещения её в поток, в котором все схожи лишь принадлежностью к своей несхожести — вот ключевой мета-принцип современной жизни.
То есть — опять парадокс! — усложнение жизни, происходящее объективно, не требует с необходимостью усложнения мышления. Более того — оно требует и обуславливает деградацию: копирование бесхитростных умственных операций, аналогичных тем, что мы проделываем ежесекундно с собственным смартфоном. Более того: оказывается, отказ от мышления — это не деградация, а осознанный стратегический маневр. По крайней мере, в глазах теоретиков технологического прогресса. Вот что об этом пишет все тот же Келли:
«Я заметил, что начал думать по-другому, потому что коллективный разум
сделал мое мышление на редкость широким и свободным. Я думаю активнее,
меньше размышляю. Вместо того чтобы подойти к вопросу, бесцельно пережевывая его в уме и подпитываясь исключительно собственным невежеством,
я начинаю делать что-то. Я сразу же приступаю. Я начинаю смотреть, искать,
спрашивать, задавать вопросы, реагировать, внедряться, делать заметки,
закладки, оставлять след — я начинаю с создания чего-то своего. Я не жду.
У меня нет необходимости ждать. Теперь я сразу же воплощаю идеи,
вместо того чтобы о них думать…»[3]
Смелое признание. Но гораздо смелее то, что оно небезосновательно и основано как раз на информационном наполнении эпохи:
«Этот новый способ существования — нестись по волнам, нырять вниз, взмывать вверх, перескакивать от одной части к другой, писать твиты и болтать о пустяках,
с легкостью нырять в новизну, грезить наяву, подвергать сомнениям абсолютно каждый аспект жизни — это не «баг». Это «фича». Это адекватный отклик
на океан данных, новостей и фактов, который захлестывает нас.
Мы должны быть гибкими и проворными, перетекая от идеи к идее,
поскольку эта гибкость соответствует бурной информационной среде,
окружающей нас. Это состояние не лень неудачников, не незаслуженная роскошь.
Оно необходимо для выживания.»[4]
Понятное дело, что в такой предельно прагматичной интеллектуальной ситуации места не остается не только метанарративам, но и всему остальному, кроме flash-версий и осколков больших нарративов, распространяемых в соцсетях или иных медиа. Таким образом, если в эпоху постмодерна речь шла о недоверии к метанарративам, то сегодня — об их полной и частичной деградации и «растворении в потоке». Кстати, речь в данном случае идет только о западных нарративах — исламский (религиозно-фундаменталистский) не только жив, но и нашел актуальность в мире XXI века. В любом случае, стиль и образ действий ориентирован ответить на вызов и стать в некотором смысле изоморфным информационной технологии. Это значит — действовать, эмоционировать или как-либо реагировать на происходящее, не думая и не размышляя над этим предварительно. Характерно, что Келли мастерски сформулировал суть эпохи: согласно этому алгоритму, действуют не только тик-токеры или подростки, бесконечно сидящие в социальных сетях, но и вполне серьезные менеджеры, политики и руководители.
3.
Дробление и фрагментация метанарративов спровоцировала тенденции, которые кажутся нам вовсе неожиданными. Скажем, массовые протесты. Occupy в США, арабская весна, протесты в Испании и Греции, московская Болотная площадь, Украинский Майдан, Белорусские протесты — что из этих событий прошедшего 15-летия привело к значимому результату? Нет, не к паническому бегству или убийствам диктаторов, а радикальным переменам в общественных отношениях? Причем, движения провалились не вследствие каких-то уж очень драконовских мер борьбы с ними, они просто сами закончились, распустились или разошлись. Не в последнюю очередь из-за того, что не были способны помыслить иные порядки или иные типы взаимоотношений. А если иное не мыслится, зачем что-то менять? Точнее, «зачем» приблизительно понятно, но вот «на что»?
Тут стоит вспомнить Алена Бадью с его философией события. Как известно, Бадью различал ситуацию (простую множественность) и Событие, которое всегда порождает нечто новое и которому следует быть верным как можно дольше. В эпоху flash-модерна ситуаций возникает множество, но ни одно или редкие, единичные экземпляры перерастают в События. Точнее, с помощью инфодемии они могут стать событием с маленькой буквы, изменяющей жизнь отдельных индивидуумов. Однако, на Событие такие ситуации явно не тянут, хотя иногда могут заканчиваться политическими последствиями — как, например, ковид.
Марксист и маоист, Бадью ставил знак равенства между событием и революцией. Но вот революции как раз и не хотелось. Веками с революциями боролись разными методами — от реформ до репрессий. Ничего из этого не срабатывало эффективно, по крайней мере, в долгосрочном периоде. Рецепт на самом деле оказался достаточно простым: борьба с революциями успешна, когда появляется возможность резко увеличивать частоту событий. На фоне экспоненциально возрастающей частоты революции, хоть и происходят, оказываются незаметными. Они просто становятся в однородный ряд нового, в линейную арифметическую прогрессию событийного ряда. С момента, когда императив нового в соединении с возможностями техники порождает этот бесконечный поток конечных вспышек, в определенной мере и связанных, и несвязанных между собой. Событие становится событием с маленькой буквы. Оно несёт не Новое, но новое с маленькой буквы. И именно количество этого нового выдаётся за качество.
Марк Фишер пророчески писал:
«Вполне вероятно, будущее готовит нам лишь повторение
и повторные искажения одного и того же. Может ли быть так,
что не будет никаких разрывов, никаких «шоков от нового»?
Подобные тревоги порождают маниакально-депрессивное колебание:
«слабая мессианская» надежда на то, что нечто новое должно произойти,
переходит в мрачную убежденность в том, что новому не бывать.
Фокус смещается от Следующей Великой Вещи к последней великой вещи —
как давно было что-то великое и насколько велико оно было?»[5]
Flash-модерн полностью выполняет это пророчество. «Что-то великое» ежедневно, ежесекундно не создашь, а лента новостей, превратившаяся в поток, который мы скроллим в поисках нового, улучив свободную минуту, требует если не События, то события. Если не с большой буквы, то хотя бы с маленькой.
Отсюда и миф об увеличивающейся скорости жизни. Ведь скорость — это всего лишь мера событийности в единицу времени. Скорость есть точка, где время соединяется с линейным пространством событийности и протяженности. Дискретный поток событий управляет временем. Управляет субъективным человеческим восприятием. Если Бергсон говорил, что время — это человеческое внутреннее, то избыточная событийность ускоряет время. Избыточность вообще ускоряет время. Желание прописывается в хронотопе «здесь-и-сейчас» и накрывает время императивом немедленного исполнения. Исполнительная, репрессивная функция этого императива исполнения требует от человека постоянной самомотивации порождать новое, чтобы не оказаться вне потока. Ибо оказаться вне потока — это оказаться вне человеческих иерархий, сетей и прочей связности, оказаться вечным лузером, не поспевающим за событийной скоростью.
4.
Но и обладающие мощью финансовых и нефинансовых ресурсов игроки — государства и корпорации — тоже не блещут результативностью.
Если говорить о бизнесе, то он «едет» на достижениях и разработках прошлого. Стартапы — машины сравнительно недорогой экстракции идей — были изобретены гораздо раньше, об инновациях структурно-функционального развития (вроде корпоративного кодекса компании Valve) не слышно ничего на протяжении очень длительного срока. Зато известно, насколько сложно было бизнесу пережить ковид, как пандемия обесценила офисы в престижных районах (скажем, в Долине) и насколько охотно бизнес прибегает к государственной помощи, когда это становится возможным. В эпоху ковида странным образом исчез флер заумных инноваций, никто не внедрял технологий поведенческой экономики и подталкивания (хотя они бы очень пригодились с началом масочного режима). Известная консалтинговая компания ограничилась докладом на тему «неопределенность — это нормально», после чего с некоторым облегчением переключилась на проблемы GPT-чата и искусственного интеллекта в целом.
Что же до государств, то падение их компетенции хорошо заметно в деле поддержки Украины в ее войне с Россией. Мы могли наблюдать максимальный уровень поддержки вначале полномасштабного вторжения и сразу после Бучи. Тогда приехать на поезде в Киев считалось для среднего европейского политика примером выдающейся отваги и носило политически-рекламный характер. На какой-то момент стало казаться, будто либеральный метанарратив, объявленный мертвым Ювалем Ноем Харари, вновь ожил и овладел населением западных государств. Но по мере течения времени и проведения выборов уровень поддержки снижался или переходил в разряд лозунгово-заверяющих месседжей. Судить о размерах реальной помощи пока нельзя, однако просачивающееся с фронта в речи украинского президента говорит: снарядов и прочего боекомплекта катастрофически не хватает. А это значит, что обещания остались обещаниями.
Еще хуже обстоит дело с межгосударственными институциями. ООН, созданная для управления политическими и особенно геополитическими процессами в мире, способна лишь на глубокую озабоченность, а ее Генеральный Секретарь даже после пребывания под российской бомбейкой не перестает произносить роспропагандистскую муть. Российско-украинский конфликт поразил ООН в самое сердце, в средоточие ее оснований: Россия (несомненный агрессор в данном случае) оказалась в Совете безопасности с правом вето. И при этом ООН не самораспустилась и не изгнала агрессора из Совбеза.
Смешнее всего, конечно, выглядит НАТО. Это организация, глубинный смысл которой в последние 30 лет, по крайней мере после падения Берлинской стены, состоял в расширении на Восток, упорно отказывается расширяться за счет Украины. Которая по состоянию на сегодня уже превзошла НАТО в боевом опыте.
Можно по-разному объяснять поведение в отношении Украины как отдельных стран, так и международных организаций. Но нельзя не признать: за всем этим скрывается онтологически общий знаменатель, близкий flash-модерну. Политика в эту эпоху краткосрочна, сиюминутна, не нацелена на века и не предполагает больших масштабов. Она чрезвычайно зависима от общественного мнения (пулы в режиме реального времени), дышащих в спину партнеров-конкурентов по цеху, и не решается на действительно великие дела. Причем, не правы те, кто все беды списывают на геронтократию: к компромиссам с реальностью и Realpolitik склонны как раз молодые лидеры, у которых еще «все впереди».
Вполне же справедливая критика международных институций, имеет неочевидную, но если разобраться, неприятную коннотацию. Да, они были созданы в рамках Ялтинской системы, очередной уточняющей после глобальной войны итерацией системы Вестфальской. Система, конечно, несправедлива, но кто видел в реальности справедливые международные системы? То, что международные организации сегодня в кризисе и то, что они по сути ничего не могут сделать без национальных государств, говорит лишь о том, что вместе у нас пока не получается. И если политическое возвращается, как в свое время говорил Розанвалон, то возвращается оно на национальный уровень, и порождает именно национальную политику — в эпоху, когда проблемы требуют глобальных ответов и объединения усилий в рамках планеты.
Главное же в том, что глобальные события (по Бадью — События, именно так, с большой буквы) не приносят изменений в общественные отношения. Пандемия ковида — мощное международное событие. Но изменила она только наши привычки не сидеть в офисе весь рабочий день. Думаю, та же участь ждёт и российско-украинскую войну.
Бодрийяр в «Прозрачности зла» называл современное положение вещей «состоянием после оргии». Как, все-таки, много изменилось с 1990 года, когда были эта метафора была впервые применена! Ведь Бодрийяр пишет:
«Каждый взрывной момент в мире — это оргия. Это момент освобождения
в какой бы то ни было сфере. Освобождения политического и сексуального, освобождения сил производительных и разрушительных,
освобождения женщины и ребенка, освобождения бессознательных импульсов,
освобождения искусства».[6]
Сегодня все кардинально не так. Оргия есть, но она не связана с освобождением, а связана с иллюзией перманентного освобождения. Чего нет — так это состояния «после». Flash-модерн, жонглирующий короткими совершёнными событиями, бесчисленными точками фиксации Present Perfect, не предполагает состояния «после» по определению. Накатывающие одна на другую волны дискурсивных возбудителей немногочисленных базовых рецепторов индивидуальной и коллективной психики делают превращают машину желания в вечный двигатель, в беспрерывный поток разнообразных наслаждений новым. Имитация лучше реальности. Похоже, мы давно живем в виртуальном пространстве, и только сейчас, для порядка, для большей реалистичности, для соответствия, решили разработать для этого технические средства.
5.
Наблюдение за ситуацией flash-модерна кого угодно может привести в состояние неподдельного ужаса. В самом деле, отказ от мышления на всех уровнях в сочетании с выученной беспомощностью и нерешительностью политического лидерства выглядят жалко. Однако, попытки восстановить метанарративы в современном мире выглядят еще более уродливо.
Таких попыток несколько, и я вряд ли ошибусь, если скажу: попытка сегодня насадить метанарратив на голову других (безотносительно их количества) эквивалентна диктаторскому лидерству, попытке установить диктатуру на данной территории. Что подтверждается сегодняшними трендами. Метанарратив пытается насадить Владимир Путин. И это уже не постмодернистский Сурковский конструкт, который мог бы лечь на израненную и перепаханную российскую почву. Это классическая, в духе Гитлера и Розенберга эклектика, сочетающая в себе и воспевание большевизма (с одновременным отрицанием Ленина), и православную религию,
и антилиберализм, и борьбу с фашизмом, а также элементы дугинской архаики (вроде призыва сменить костюмы на кафтаны XVII века) сдобренные некоторыми идеями Хайдеггера в интерпретации того же Дугина. Эффективность восстановления метанарратива видна в масштабах эмиграции из России в момент объявления всеобщей мобилизации: в него на деле никто не поверил. Причем, те, кто остались в России и попали в ряды российской армии, неясно, сделали это искренне, под влиянием призывов властей или же на это у них были другие причины.
Китайская цивилизация восстанавливает древний конфуцианский этический принцип «жэнь» — сыновней покорности — оформляя эту покорность в цифровую форму (метод «социального кредита»). Конечно, информация из Поднебесной скупа и противоречива, но первые попытки внедрения кредита в жизнь привели к более чем скромным результатам. В случае войны, конечно, мы вряд ли увидим массовую миграцию китайцев за рубеж, но даже там массовое одевание метанарратива на голову населению вряд ли приведет к результатам, на которые рассчитывает председатель Си.
Пока лидером в процессе насаждения метанарративов остается ислам, но в этом мире все сильнее противоток — саудовская по своему происхождению идея об успешности мусульманина в мире, созданном европейцами. В любом случае, это специфически мусульманская борьба нарративов, и европейцу в нее нет доступа.
Хотя, европейцы проповедуют свои варианты. MAGA Дональда Трампа — наиболее яркий из целого ряда. Возрождение воображаемой идентичности в сочетании с пропагандой ненависти к мигрантам (прежде всего — латиносам из Мексики и сопредельных стран) имеет поддержку среди американцев, однако природа этой поддержки скорее внутриполитическая, чем искреннее следование метанарративу, который, собственно, попагандируется. «Большой рассказ» о величии Америки может выглядеть у какого-нибудь рэднека точно таким же, как у миллиардера Трампа, но вот природа его будет иной: прогрессирующее неравенство, которое поражает самую капиталистическую страну Запада и достигает даже класса самостоятельных хозяев (рэднеков), которые всегда считались оплотом американского среднего класса.
Таким образом, нам впору говорить не о восстановлении метанарративов, а об игре в восстановление метанарративов. Игре, в ходе которой всякий раз воссоздается не метанарратив, а эрзац, который с тем или иным успехом можно использовать в качестве идеологии. Настоящий метанарратив нерукотворен, его нельзя создать в тиши кабинета, даже если этот кабинет с высокими потолками. Настоящий метанарратив складывается под воздействием наслоения человеческого опыта, иногда — на протяжении столетий. И, как правило, он связан с социальным порядком или порядками, которые нарратив так или иначе освящает, иначе сознанию людей грозит когнитивный диссонанс.
Кабинетным способом можно создать только идеологический конструкт, который не факт, что будет работать в общественном и личном сознании. Что касается порядков, то тут и вовсе происходит забавная вещь: буквально все идеологические конструкты, претендующие на звание метанарративов, освящают и защищают (по крайней мере не подвергают сомнению) существующий неолиберальный порядок поведения государства в экономической сфере. Даже Китай, не говоря уже о Трампе, не создал экономическую модель, которая тем или иным образом отрицала бы неолиберализм. А путинская Россия держит его в надежде восстановления business as usual с Западом. Впрочем, оригинальной экономической модели от нее ждать и так не приходится.
Все это создаёт для стороннего наблюдателя ситуацию, похожую на сюжетный ход модернистского хоррора: те, кто считали воссоздание метанарративов альтернативой, могут убедиться, что это не альтернатива, и мы вновь оказываемся в объятиях flash-модерна. Дискретность, растущая фрагментация кажутся сегодня более мощным трендом, чем любые попытки так или иначе восстановить «большие рассказы»
Возможно, так оно и есть — по крайней мере, тому есть вполне научное, хоть и отдающее мистикой, физико-космологическое обоснование. Расширение Вселенной делает фрагментацию не только неизбежной, но и фундаментальной. Об этом пишет Ник Ланд (не объясняя, правда, почему в домодерные времена никто не заморачивался с медленной скоростью фрагментационных изменений):
«Процесс расширения вселенной ускоряется. Вместо того, чтобы замедлиться
из-за силы притяжения, космическая инфляция, следующая за изначальным взрывом, все ещё набирает скорость. Некая неизвестная сила преобладает над гравитацией
и красно-смещает все далёкие объекты. Недавно нареченная «темной энергией»,
этой силе приписывают 70 процентов физической реальности.
По сравнению с убедительно подтвержденным открытием ускоряющейся фрагментации, идея глубинной единой «вселенной» выглядит как неустойчивый мифологический пережиток. Неустойчив он даже в рамках непротиворечивого научного мифа.»[7]
И далее, продолжает Ник Ланд, фрагментация объективно накрывает наш мир:
«Темная энергия разрывает космос. В конце концов, его части отдалятся
от световых конусов друг друга. И с этих пор они больше не будут чем-либо
друг для друга. Открытие это обладает невероятными последствиями.
На наибольшей шкале эмпирической объективности у Единства нет будущего.
«ВСЕленная» (универсум) — нереалистичная модель.
Всё, что мы знаем про космос, предполагает, что фрагментация первична.»[8]
В то же время (и это снова парадокс) усиливающаяся фрагментация — момент, когда нам как никогда нужно снова быть Едиными. По Ланду, такой проект противостояния физической реальности должен быть скорее морально-политическим. Хоть он и не дает намёка на основания такого проекта. Очевидно, что создание эрзац-нарративов для этой цели не подходит. Иной путь пока не проявился. Это значит, что тем, кто еще сохраняет способность мыслить, предстоит большая работа по поиску неочевидного и контринтуитивного. Даже в условиях flash-модерна.
_____________________________________
Библиография
Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла (Москва: Добросвет, 2009).
Келлі, К. Невідворотне. 12 технологій, які формують наше майбутнє (Київ: Наш Формат, 2016)
Ланд, Н. «Дезинтеграция», Сигма, https://syg.ma/@antidanyar/nik-land-diezintieghratsiia.
Фишер, М. Капиталистический реализм (Москва: Ультракультура 2.0, 2019).
_____________________________________
[1] Денис Семенов — политический философ и независимый исследователь из Киева. Выпускник исторического факультета Днепропетровского национального университета и аспирантуры ДНУ по специальности «социальная философия и философия истории», он долгое время занимался политическими технологиями и консультированием, управлением электоральными кампаниями и консалтингом для политических партий и благотворительных организаций в Украине.
[2] Кевін Келлі, Невідворотне. 12 технологій, які формують наше майбутнє (Київ: Наш Формат, 2016), 48.
[3] Там само, 217.
[4] Там само, 221.
[5] Марк Фишер, Капиталистический реализм (Москва: Ультракультура 2.0, 2019), 14.
[6] Жан Бодрийяр, Прозрачность зла (Москва: Добросвет, 2009), 7.
[7] Ник Ланд, «Дезинтеграция», Сигма, https://syg.ma/@antidanyar/nik-land-diezintieghratsiia.
[8] Там же.
Автор: Денис СЕМЁНОВ, политический философ
Джерело тут