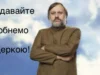Присутствие и представительство
Выборы представителя отсылают нас к двойной логике тождества и различия. Мы хотим, чтобы тот, за кого мы голосуем, умел управлять. Именно наличие качеств руководителя и технической компетенции у кандидата обусловливает наш выбор. Выборы подчиняются тогда принципу различия. Они опираются на идею, что необходимо «выбирать лучших», и избиратель имплицитно допускает, что его избранник обладает теми качествами, которых у него самого нет. Но в то же время от представителя ждут, чтобы он был близок к своим избирателям, знал их проблемы и тревоги, разделял их заботы и чаяния.
В этом случае выборы соотносятся с принципом близости, идентичности. И в этом свете идеальный представитель – это тот, кто думает, говорит и живет, как его избиратели, то есть воплощает собой что-то вроде наилучшего образца их самих. С одной стороны, надежда на компетентность избранников, с другой, – стремление к тому, чтобы прежде всего они походили на своих избирателей.
С одной стороны, – ожидание «ярких личностей», с другой, – приветствуются «темные лошадки», люди без имени, выходцы из толпы. Именно поэтому на протяжении вот уже двух веков оба эти идеальных типа защитника (а позднее, эксперта) и товарища являются конкурирующими эталонами в понимании, что такое представительство.
Противопоставление предполагающих эти фигуры принципов являлось лейтмотивом всех диспутов и дебатов о представительной демократии [2]. Партийная демократия довольно длительное время позволяла связывать воедино оба эти элемента, накладывая результаты внутренней процедуры отбора кандидата на утверждение его социальной идентичности и общественного мнения о нем.
Тем самым она снизила интенсивность того, что можно назвать структурным напряжением представительных систем. Бесспорное ослабление этого напряжения автоматически высветило некоторые характерные черты этих систем. Именно это, употребляя чрезвычайно размытую терминологию, часто и называют «кризисом представительства». И именно в этом контексте следует рассматривать возникновение общественного спроса на присутствие.
Присутствие, сопереживание, сострадание – с этими словами в политике возникает новый язык. Они свидетельствуют о разрыве, произошедшем в подходе к проблемам идентичности и представительства. Они выражают собой тот факт, что отношения идентичности между гражданами и властями больше нельзя мыслить в терминах социологии, в режиме фигуративности, предполагающем некое подобие между одними и другими, как в наказах небезызвестного всем Прудона, ратующего за появление депутатов от рабочих, потому что, на его взгляд, только они способны представлять народ, не понаслышке зная о трудностях его повседневной жизни [3].
Политика идентичности, излагаемая в этой терминологии, конечно, по-прежнему обладает силой внушения, если речь идет, например, об отсутствии в парламенте «видимых меньшинств» или о недостаточном представительстве в нем женщин [4]. Но такое понимание вещей потеряло свое значение в результате тех пертурбаций, которые изменили структуру общества. Проблемы представительства и идентичности стали пониматься иначе.
В первую голову от власти ждут, чтобы она проявила участие, показала внимание, заверила в своей восприимчивости к невзгодам избирателей. Тем самым императив присутствия и ожидание сострадания заменили собой требование представительства, которое теперь не имело большого смысла [5]. Фактпассивного присутствия заменил собой проект наглядного представления (repraesentare).
В одном известном эссе Поль Рикёр противопоставляет фигуры «socius» и ближнего[6]. «Socius» – это социальный индивидуум, член какой-нибудь группы или класса; он растворяется в какой-либо категории, функции, коллективной идентичности. Это – обычный политический и социальный субъект. Для права он является абстрактным субъектом, для государства – гражданином, для налоговых служб – налогоплательщиком, а для экономики – рабочим, служащим или менеджером высшего звена.
А значит, связь между этими субъектами всегда опосредована, связана с ролью и функционированием какого-либо института. С ближним ничего подобного не происходит. «Ближний, – отмечает Рикёр, – это такой тип поведения, при котором он сам обеспечивает свое наглядное присутствие» [7].
А значит, существует праксис конституирования ближнего, но никоим образом не его социологическая абстракция («у нас нет ближнего; я обретаю уже чьего-то ближнего»), – подводит он итог. Ближний всегда сингулярен, он может возникнуть только в связи с каким-то событием, как это происходит в притче о добром самаритянине из Евангелия, на которую опирается философ в развитии своей мысли.
Ближний конституируется добровольным актом сближения, активным присутствием, манифестацией чувства солидарности. Именно такие фигуры «образцовых ближних» в качестве объектов конституирует политика присутствия. Отсюда и центральное место эмпатического поведения. На самом деле оно всегда отсылает к сингулярности пережитого опыта, которое касается кого-нибудь напрямую. Как раз это подчеркивала Ханна Арендт, анализируя сострадание в работе «О революции» [8].
Раз сострадание снимает дистанцию между двумя людьми, связывая присутствие с отзывчивостью к невзгодам, – значит, оно всегда является особым случаем. «Его сила заключена в самой страсти, которая в отличие от разума способна касаться только частного, отдельного, но не обладает идеей общего, способностью к генерализации» [9]. Следовательно, оно несет в себе структурно неполитический аспект. Но эта индивидуализация мира, предполагающая реализацию сострадания, возможно, сегодня несет в себе иной смысл, нежели у Рикёра и Арендт полвека назад.
Проведенный нами анализ возникновения экономики и общества сингулярности обретает здесь все свое значение. Напомним, что отныне «социальное» конституируется не только идентичностями, то есть принадлежностью к неким общностям, определяемым согласно социоэкономическим данным (возраст, пол, происхождение, профессия, доходы, имущество и так далее). Оно все чаще состоит из общности переживаний, схожести ситуаций, параллелизмов отдельных историй; оно обладает нарративным и рефлексивным аспектом.
В этом свете забота об отдельном индивидууме меняет направление. Она включает в себя непосредственно социальный аспект. Если кто-то проявляет сострадание к пострадавшему в дорожной аварии, то это трогает всех, кто уже пережил подобную драму. Внимание к «происшествию» может, таким образом, восприниматься как знак еще большей заботы. Тогда это происшествие выходит за рамки отдельного случая, аномалии или любопытного факта: оно становится образцовым и превращается в социальный факт. Это необходимо подчеркнуть, хотя мы пока не будем рассматривать вопрос о типах происшествий, которые выдвигаются на первый план и получают большую значимость, чем другие.
В этих условиях само понятие «народа» тоже переопределяется. Оно начинает указывать не столько на тех, кто имеет отношение к некоей данной группе, сколько на тех, у кого есть точки соприкосновения с незримым и нестабильным сообществом, невзгоды которого, или вообще – истории, не принимаются во внимание. Забвение, безразличие, пренебрежение, осуждение стали, таким образом, наиболее ощутимыми формами современного выражения отчуждения и доминирования.
Мы уже говорили, что, когда возникает чувство оставленности, на карту ставится само существование; и это посерьезнее, чем нанесение вреда личным интересам. Эмансипация, таким образом, начинается с ощущения, что вас слушают, что такие же жизни, как ваша, имеют социальный вес. Именно поэтому такие случаи находят отголосок в политике присутствия. Она признает эти жизни, дает смысл их невзгодам. Дав им статус, она восстанавливает их в гражданственности.
Именно поэтому все большее значение приобретает понятие «жертвы». Оно соотносится с растущей трудностью мыслить идентичность положительно: жертва определяется через отсутствие, это – индивидуум, чьи житейские испытания не были приняты во внимание. В этом свете представлять – значит быть рядом с теми, кто переживает подобные ситуации, придавать социальное значение тем историям, свидетелями которых они были: это представительство-сопереживание. Оно неразрывно связано с порождением смысла и проявлением внимания. Не сходство, а искренность сострадания и выражение близости определяют «хорошее представительство».
Но сопереживание не может сводиться к какому-то дискурсу. Говоря о сострадании, Арендт справедливо замечает, что его язык – «это в большей мере жест и мимика, нежели слова» [10]. Комментируя фрагмент из «Братьев Карамазовых» об отношении Иисуса к Великому инквизитору, она подчеркивает показанный Достоевским контраст между безмолвием и молчаливостью сострадания первого и бьющим через край многословием второго.
Вся сила и интенсивность заключаются как раз в этом немом присутствии, а не в энергии и изобретательности слов. Вместе с представительством-состраданием возникает ижестикуляция власти. Ее легитимность зависит от способности принимать чувственную позу, проявлять себя экспрессивно. Тем самым воскрешается древнее представление о представительстве как о публичном показе власти, демонстрации тела суверена. Искусным экзегетом этих представлений является Луи Марен [11]. Именно «эффекты присутствия» (используем его же выражение) реально способствовали установлению монархической власти.
Представлять означало афишировать, демонстрировать. С одной целью: «усилить, удвоить присутствие» [12], приумножить тайну. Показом королевской облатки, отмечает Морен, «представительство укрепляет свои внешние проявления» [13]. Возникновение демократии, с одной стороны, привело к коллективному присвоению тела, с другой, – к лишению власти всякого тела, и последняя, в сущности, стала зависеть от никому теперь не принадлежащих правил и процедур.
В этом смысле сегодняшнее возрождение телесности политического означает собой резкую смену курса, но при этом не является простым возвратом к старому режиму фигуративности. В некотором роде оно демократизирует его пружины, превращая его в близкое тело, лишенное символов, бесконечно выставляемое на обзор публике, редуцированное к его реальному присутствию, а не к какому-нибудь недоступному и извне навязанному образу.
Центральное место средств массовой информации связано именно с этим. Их функция не ограничивается информированием о том, что делают или говорят правящие. Прежде всего их нужно показывать. Средства массовой информации стали, таким образом, той самой формой новой политики присутствия. Тем самым эмпатическая власть отвечает на кризис представительства и стремится дать ясность и зримость современной политике, ускользающей от наших органов чувств.
Она представляет собой полный контраст по сравнению с незримостью и сложностью процессов принятия решений. Раз парламентские сеансы зачастую немногочисленны и порождают ощущение пустоты, раз работа избранников растворилась в скрытых от глаз комиссиях, а администрация невидима и управляется абстракцией, эмпатическая власть навязывает нам свою чувственную истину. Вот откуда ее связь с политической риторикой проявления воли: легче показать расходуемую энергию, нежели реальную деятельность.
Присутствие придает представительству характер постоянства. Власть становится как бы имманентной, погруженной в общество и идущей за ним: это устранение дистанции между властью и обществом является эквивалентом новой демократической темпоральности. На смену регенеративной утопии прямой демократии приходит эффективный режим непосредственного присутствия. Тем самым эмпатическая власть оказывается выражением демократической генерализации, универсальной участливости, бытовой непринужденности, конституируя одномерное пространство.
Эта генерализация есть повсеместность, постоянное внимание и в то же время – признание отличительного характера некоторых сингулярных фактов. Выворачивая наизнанку один социологический концепт, можно сказать, что политика присутствия осуществляет нисхождение к обобщению [14]. Обобщать – значит действовать и мыслить на основе чего-либо, раздувать банальное до размеров социального. Погружаясь в частности, на которые смотрят как на типичные примеры, мы даем чувственную консистенцию понятию «народа». Тем самым обобщение мыслится как то, что принимает во внимание все частности в равной мере [15].
Раз присутствие несет в себе прежде всего непосредственно телесный смысл – значит, оно способствует и новому производству коллективной идентичности. Тот факт, что некое испытание или частная ситуация выводятся из забвения и анонимности, дает форму виртуальному сообществу всех тех, кто переживает подобные испытания. Отдельные и оставленные без внимания истории обретают свое достоинство, когда о них говорят и когда они включаются в общий дискурс. В этом случае представлять – значит публично конституировать проблему на основе какого-нибудь примера, повествовать о жизнях, в которых многие могут узнать самих себя.
Тем самым этим жизненным историям дается артикулированный язык, а их герои полностью конституируются в своем звании гражданина. Этот социальный язык частного случая разительно отличается от «технократического» и «идеологического» языков, которыми отныне гнушаются, потому что они символизируют собой обобщение, ощущаемое как пустота, в которой никто себя уже не видит, настолько она кажется далекой от реального опыта [16].
В этом языке конституируются чувственные идентичности, которые приходят на смену вымирающему режиму простой социальной агрегации. Представительство-наррация стоит, таким образом, на службе у политики присутствия. Сегодня легитимной видится такая власть, которая обеспечивает существование двум указанным формам присутствия: нарративной и физической. Только при этом условии она может сегодня рассматриваться как представительная.
Эта новая политика присутствия выражается в разных регистрах. Для общества это новое средство понимания того, что относится к сфере политического. Отметим, что тут сформировалось что-то вроде нового милитантизма присутствия, роль которого возрастает по мере того, как снижается роль традиционных представительных институтов.
Помимо совершенно очевидного примера благотворительных ассоциаций, которые уже давно стали чем-то вроде «школы общественных взглядов», возникают иные формы освоения публичного пространства, когда, например, заявляют о своей близости с каким-нибудь школьником, сыном нелегального иммигранта, которого угрожают выслать из страны, или с группой уволенных работников.
Тут опять же защищаются не просто некие интересы: это возмещение несправедливости существования, признание и укрепление какого-либо сообщества, вынесение на публику некоей проблемы. Все больше ассоциаций действуют именно в этом ключе. К тому же напомним, что в самом начале возникновения социализма этот подход оказал решительное влияние на формирование пролетарского чувства собственного достоинства, над которым глумились сильные мира сего. Так, в 1830-е годы вдохновитель группы сенсимонистского толка призывал своих друзей причаститься рабочим, чтобы развить у них чувство общей гражданственности и доказать их способность играть в обществе руководящую роль.
«Чтобы управлять рабочими, необходимо прежде всего ознакомиться с их трудом, знать, как они живут, не только сердцем, но и на грубой практике стать причастным этому самому бедному и самому многочисленному классу. […] Конечно, вы не сможете полностью жить их жизнью, но по крайней мере сможете хоть немного разбавить свою буржуазную жизнь жизнью пролетариата»[17].
Кроме того, поразительно видеть, что первые рабочие, взявшие в руки перо, чтобы рассказать об условиях своей жизни, прежде всего будут упрекать капиталистов в их отдаленности, эгоизме, отсутствии сострадания. Важнейшей добродетелью пролетариата, как раз наоборот, будет чувство братства, то есть внимание к несчастью других [18].
Тем не менее мы обратимся лучше к деятельности правящих. Этот императив присутствия – и вы, вероятно, почувствовали это, читая эти страницы, – уже привел к радикальным изменениям в искусстве правления и повлек за собой целый ряд непредвиденных последствий. Но прежде, чем рассмотреть эти перемены и последствия, необходимо оглянуться назад, чтобы понять, как и когда произошла эта бесшумная революция.
К истории близости и дистанции
Современная политическая власть сначала утвердилась в качестве государственного соображения, тайной силы, руководящей отдаленности. Но даже в этом сиянии сакрального таинства, чтобы казаться легитимной, она все равно была вынуждена представлять себя служителем общества. Даже Людовик XIV, король славы и войны, был вынужден показывать себя поборником своих подданных и отцом народов. Эта дуальность хорошо заметна в тех образцах чистописания, которые Боссюэ давал наследнику престола [19].
И, если дофин писал, что он будет «подобен освещающему нас солнцу», он также, со смирением, должен был переписывать следующие строки: «По природе вы – такой же, как все, а значит, должны быть чувствительны ко всяким невзгодам и страданиям человечества» [20]. Тем самым власть и сострадание входили в тесную связь. Но сострадание, о котором здесь идет речь, ни в коем случае не являлось основанием политики – это было всего лишь нравственное предписание. Оно было призвано регулировать сознание монарха.
Все это было перевернуто с ног на голову с возникновением либеральных и демократических режимов. Основывающий их эгалитарный этос сначала уничтожил всякое различие между людьми, установив в качестве главной гражданской добродетели непринужденность. Мы хорошо помним, как Токвиль характеризовал это равенство условий. Представление о существующей между властью и обществом иерархии тоже кардинально изменилось, поскольку в обществе стали видеть основу государственной власти, дающую этой власти легитимность.
Сущностью представительного правления становится закрепление этих преобразований, несмотря на то, что в нем продолжают сосуществовать дистанция и сострадание – только теперь в качестве напряженности между принципом правомочности (principe de capacité) и принципом подобия.
Проблема такого представительного правления заключается в том, что оно основывается на принципе, прозрачность которого обеспечивается далеко не всегда. Если во время выборов политическая власть открыто соотносит себя с народным происхождением, то затем эта связь теряет очевидность. Вот откуда возникает необходимость в других, более чувственных, формах выражения представительной действенности. Особенно когда речь идет о режимах с неустойчивой демократией. Именно поэтому во Франции периода Первой империи один из советников Наполеона призывал императора больше ездить по стране, чтобы показать свою близость к народу и участливость к его судьбе:
«У главы крупного государства есть только один способ узнать тот народ, которым он управляет, – ездить по стране; только один способ поведать о себе народу – ездить по стране. Только эти поездки могут установить связь между государем и народом, напрямую от одного к другому. Долгое время считалось, что народ может заявить о своих правах государю только через своих представителей. Но, когда государь путешествует по стране, народ все делает сам. В образе государя-путешественника больше правды и доброй демократии, нежели во всех республиках мира» [21].
Поездка по стране становится опорой представительства, формой прямой политической коммуникации, субститутом ослабевших институтов власти. С одной стороны, представительство – воплощение того, кто претендует на звание «человека-народа», с другой, – физический опыт близости: как раз с помощью этой двойственности бонапартизм в свое время хотел покончить с демократическим идеалом. Легенды о Наполеоне, идеализирующие государя, будут принимать ту же форму. Откроем одну брошюру начала 1830-х годов:
«Народ – это я, – говорил Маленький капрал, и Маленький капрал был прав. […] Тем самым он хотел сказать, что он лучше, чем кто-либо другой, знает народ, живет его жизнью» [22].
Бальзак и Гюго тоже запечатлеют эту близость на страницах своих произведений, повлиявших на несколько поколений читателей [23], а поэт Беранже будет писать песни, с которыми в каждую хижину Франции проникнет этот образ славного богатыря и простого человека [24]. «Он курил с солдатами и ел их картошку», – такие слова встречаются в одной известной песенке.
Введение во Франции в 1848 году выборов президента Республики общим голосованием приведет к новой связи между народом и властью. Народ совершенно естественным и более чувственным образом будет ассоциировать себя с тем, кто находится во главе государства. Интересно отметить, что мастерские по изготовлению дешевых картинок, в частности, красочных картинок Эпиналь, начинают изготовлять портрет избранника, который расходится по всей стране. Таким образом в истории политического представительства открывается новая страница.
Политический механизм обретает не только тело, но и лицо, включается в экономику присутствия. Прямые выборы и изображение кандидата начинают входить в систему. Если после 1833 года Луи-Филипп жил в Тюильри практически затворником, опасаясь мятежей, таких, какие, например, были в 1832 году, то Луи Наполеон Бонапарт, наоборот, увеличил прямые контакты с народом. Так, в 1849 году он предпринимает целую серию поездок по департаментам.
Присутствует на открытии железнодорожных путей, чье развитие переживало тогда активный подъем, посещает фабрики, встречается не только с именитыми гражданами, но и с рабочими. К концу своего мандата, осенью 1852 года, в тот момент, когда на повестке дня стояла проблема восстановления Империи, он в течение двух месяцев будет разъезжать по юго-западу страны, недвусмысленно представляя эту поездку как народный «опрос».
Тем не менее это было всего лишь первым наброском того, что во Вторую империю превратится в систематическую политику. Став Наполеоном III, он будет оправдывать отказ от традиционной представительной системы, предъявляя себя как защитника плебисцита и сторонника дружеской участливости. Так что его поездки по стране будут уже настоящим инструментом правления.
С 1853-го по 1869 год были организованы шестнадцать продолжительных поездок. И в каждом случае преследовалась одна и та же цель: достигнуть прямого контакта между французами и главой государства. С одной стороны, по-прежнему остаются в ходу тщательно продуманные церемониалы имперского величия, с другой, – император предстает искусным мастером по организации близости к народу.
Он посещает мастерские и заводы, знакомится с сельским хозяйством, инспектирует ясли и больницы, обследует самые бедные кварталы. Он принимает делегации именитых граждан, а также рабочих и крестьян, участвует в балах и пирах, на которые иногда приглашаются огромные толпы людей (в некоторых случаях порядка десяти тысяч человек). Тем самым массы могут почти физическим образом приблизиться к государю, чьи поездки являются живой и видимой с ними связью. В местных газетах, отчитывающихся об этих поездках, можно встретить одни и те же выражения. Рассказывается, как люди окружали императора, могли посмотреть на него, пожать ему руку, потрогать.
Отмечается, что во время послеобеденной прогулки «он попросил, чтобы сопровождавший его эскорт не препятствовал крестьянам подходить к нему»; подчеркивается, что это был «непосредственный контакт с населением» и что император приказал не чинить тому препятствий. Очевидец его поездки в Бретань рассказывает о «полной доверия непринужденности», полагая, что «никогда еще контакт между государем и народом не был столь тесным и частым», и подчеркивая, что на улицах Ренна «не было ни охраны, ни эскорта, ни даже сановников – это было полное смешение» [25].
Тут не только близость, но и единодушие. Газеты и иллюстрации показывают сплоченную и воодушевленную массу. Конечно, в этих взаимоотношениях есть некоторая снисходительность. Но в них есть и что-то, более существенное. Порождая эту пленительную реальность, они отчетливее обнажают пружины того типа исполнения власти, который открывается в эпоху Наполеона III. Мы начинаем лучше понимать, что конституирует этот цезаризм с его амбицией основания нового отношения к представительству, где это отношение теоретизируется установленным режимом как исконно куда более демократическое, нежели парламентская система.
Эти контакты «с-глазу-на-глаз» и «бок-о-бок» между императором и народом во время поездок по провинциям (которые тогда обычно рассматривали как эталоны «непрерывного плебисцита» [26]) в глазах защитников этого режима были призваны усовершенствовать демократическую идею – и в плане воплощения, и в плане присутствия.
Примечательно, что официальные поездки потеряют свою значимость в эпоху Третьей республики. Эти «переживания близости» [27] продолжат свое существование, но интенсивность будет уже не та. Республиканские президенты будут использовать их в качестве дополнительной техники коммуникации, но поездки больше не будут иметь того символического и практического значения, которым они обладали в период Второй империи [28].
Возможно, лишь поездки Сади Карно явятся здесь исключением, но их задачей будет уравновешивание влияния «маленького Цезаря» и эксперта по прямому контакту с толпой – генерала Жоржа Буланже [29]. Республиканцы, не теоретизируя этого вопроса ясным образом, будут стремиться отвести от себя тень цезаризма путем возврата к традиционным принципам представительной системы.
Страх возможного возвращения бонапартистского культа личности приведет к пониманию представительной дистанции как добродетели. Они будут одержимы заботой пообестелесиванию политики, по-прежнему подозрительно глядя на тех, кто слишком ловко умел воодушевлять толпу, и считая, что хорошая демократия, как говорил Гамбетта, должна быть «врагом несдержанных личностей». Республика будет отдавать предпочтение не близости, а абстракции [30]. А первые наброски политики присутствия будут восприниматься как результат иллиберализма, помноженного на архаичность.
Переломный момент
Каким же годом датировать тогда те перемены, которые привели к сегодняшнему режиму политического присутствия? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно ясно увидеть то, что относится к обычной коммуникативной стратегии, и то, что является, собственно говоря, политикой. Непринужденность в политике существует давно; она неотделима от демократического идеала. Так, во Франции 1830-х годов Луи-Филиппа уже называли «королем-гражданином», а его буржуазная манера поведения обсуждалась в газетах.
В Америке того же периода торжествовала идея демократии простых людей и устанавливался такой политический стиль, который устранял всякую официальную дистанцию. Затем императив близости руководителей будет просто-напросто регулироваться эволюцией нравов и медиатического пространства, поскольку электоральная борьба автоматически приспосабливается к растущей роли наглядных иллюстраций, в частности в связи с возникновением телевидения.
Но идет ли речь о детях Кеннеди, играющих со своим отцом в Овальном кабинете Белого дома, или о Валери Жискар д’Эстене, ужинающем у простых французов и принимающем в Елисейском дворце местных мусорщиков, – все это еще только коммуникация. Близость является здесь всего лишь одной из переменных того позитивного образа, к которому стремятся политические руководители.
Дистанции по-прежнему отводят большое значение. Например, французский президент на деревенском празднике может играть на аккордеоне и в то же время еще больше усложнять и без того весьма кодифицированный протокол приемов, который чуть ли не возвращает нас в эпоху Людовика XV.
В политическом же плане глава по связям с общественностью – сначала при Франсуа Миттеране, а потом и при Жаке Шираке – в 1990 годах делается теоретиком исключительности и торжественности президентских речей. Он воспевает «тишину, предуготовляющую силу выступления», и считает, что слишком частые заявления главы государства значительно снижают интенсивность желания услышать его [31]. Настоящий перелом происходит позднее, на рубеже XXI века, и в первую очередь он связан с внутренними трансформациями обществ.
Чтобы убедиться в этом на практике, достаточно заглянуть в еженедельник министров или глав правительства. Эти еженедельники действительно являются хорошим показателем того, что значит управлять. Они материально фиксируют те формы, которые обретает исполнение власти по ту сторону идеологий и программ. Они без прикрас выражают то, что считается определяющим в политике на данный конкретный момент времени. Руководители всегда хорошо знают, что для них главное! Даже поверхностный анализ показывает, что в этой сфере происходит настоящая революция.
Хотя часть дипломатической и институциональной активности в силу вещей практически не меняется, можно с удивлением констатировать, что цели поездок по стране и, например, характер приемов значительно поменялись [32]. Короче говоря, широко освещаемые в средствах массовой информации встречи все чаще происходят с «индивидуумами-символами» и все меньше – с представителями общественных институтов, профсоюзных или профессиональных организаций. Наравне с этим главы государств все реже выезжают на какие-либо инаугурации, что долгое время считалось за правило.
Зато теперь они устремляются к изголовью образцово-показательных жертв или свидетельствуют о своем сострадании населению (и даже отдельным индивидуумам), пережившему естественную или техногенную катастрофу. Джордж Буш в США и Николя Саркози во Франции хорошо иллюстрируют эти перемены в искусстве правления и в то же время символизируют собой самые извращенные их проявления.
В Америке Буша термин «сострадание» возникает сначала в политическом языке.Compassionate conservatism [33] даже представляется в качестве оригинальной политической доктрины. Это словосочетание возникает в начале 1980-х годов, но по-настоящему входит в оборот в 1996-м, после публикации работы Марвина Оласки «Пробуждая американское сострадание» [34]. Джордж Буш, тогда еще губернатор Техаса, написал восторженное предисловие к следующей книге автора и поставил эту тему в центр своего политического мировоззрения. Распространявшаяся тогда идея сострадания воспринималась как настоящий «экономайзер общественных институтов».
Она отсылала к двойному проекту дезинституционализации государства. Прежде всего она вписывалась в ряд консервативной критики социального государства, настаивая на непредвиденных эффектах бюрократической общественной системы, основанной на автоматически признаваемых правах [35]. Кроме того, Оласки обратил на себя внимание, опубликовав «Трагедию американского сострадания» – работу, в которой стремился показать, что бедность (the Underclass) легче было победить в XIX веке, но не в XX.
И тому есть следующее объяснение: до установления социального государства-покровителя, подчеркивает Оласки, благотворительные организации были значительно эффективнее, потому что, во-первых, прекрасно владели ситуацией на местах и близко знали живущих там людей, а во-вторых, умели исправлять нравы, регулировать отношения и даже обязывать к ним. Именно к этой системе надлежало бы вернуться, чтобы снизить общественные затраты и в то же время эффективнее бороться с бедностью, поскольку бедность «самоподдерживается» существованием безоговорочных общественных прав, неотделимых от бюрократического управления социумом.
Таким образом, сострадание было тем чувством, которое оправдывало сворачивание политического и сокращение доступных прав. Через утверждение необходимости прямого контакта благотворительных организаций с бедными отстаивалась эта новая доктрина, а также делалось лишним существование государства с его «контрпродуктивным влиянием».
В политическом плане для Буша эта идея сострадания соотносилась с политикой чувств, а не с политикой идей. Она открыто противопоставляла прагматический консервативный подход с его заботой о людях идеологическому и бюрократическому мировоззрению, в защите которого обвиняли либералов.
Поведение же Николя Саркози, в плане близости, было в основном политическим. В первую очередь оно характеризуется в терминах практики правления. Здесь нет смысла останавливаться на том, что многие наблюдатели назвали его «вездесущностью» – на эту тему написано огромное количество книг и статей. Большинство комментаторов двумя способами резюмировали то, что принималось за некий стиль и стратегию: с одной стороны, зуд активности, с другой, – одержимость коммуникацией; при этом гамма эпитетов само собой варьируется от разной степени симпатии до отвращения, внушаемых данным персонажем.
Но в этих комментариях почти всегда рассматривается саркозизм первых месяцев, то есть тот перелом, который, как кажется, он несет с собой и в плане личного поведения, и в плане медиатической стратегии. Это все не вызывает вопросов. Но саркозизм прежде всего следует понимать как крайнее выражение политики близости. В жестикуляции [36], в стремлении сделать из отдельных моментов жизни обычный storytelling [37], а также в своем отношении к средствам массовой информации Саркози показал нам различные аспекты этой политики.
Он использовал все ее ресурсы и в карикатурном виде представил все ее формы. А заодно ярко высветил проблему присутствия, указав на ее патологии, отклонения и разрушительные мутации, которые являются результатом ее регресса до уровня просто-напросто необузданной коммуникации, все больше отрывающейся от реальности происходящего.
Политика и неполитика присутствия
Присутствие образует новый режим представительства, в котором понятию «мандата» больше нет места. Теперь первоочередной задачей является не установление взаимообязанностей между правящими и теми, кем правят, а необходимость показать, что те, кто правит, понимают, как живут те, кем они правят. Например, в работах Хиббинга и Теис-Морс подчеркивается, что граждане скорее чувствительны к искренним проявлениям сочувствия правительства, нежели к содержанию принимаемых им мер [38].
Эти проявления сочувствия в сущности воспринимаются как практические доказательства того, что правящие живут вместе с народом, а не в некоем замкнутом пространстве. Уменьшение представительной дистанции осуществляется здесь не благодаря существованию прямых полномочий или сходству представляемых и представителей. К двум этим традиционным техникам общественного присвоения политики добавляется еще одна: техника физического сближения и участливости.
И раз электоральные обещания устанавливают некую гипотетическую и многими слабо ощущаемую связь между избирателями и избранниками, то присутствие предлагает свое непосредственное и эффективное постоянство. Ведь сочувствие, можно сказать, всегда держит свои обещания, пусть они и скромны. Правящие круги почувствовали это гражданское разочарование.
В результате они не столько обещают какие-либо результаты, сколько гарантируют избирателям свою энергию, внимание и заботу. Эта зримая самозатрата обретает огромное значение на местах, рядом с теми, кто, по всеобщему мнению, на данный момент воплощает собой страдания этого мира или, наоборот, его успехи и чаяния.
Тем самым само существование власти превращается в действие. Именно поэтому присутствие становится настоящей политической формой. Оно совершенно иначе определяет взаимоотношения тех, кто правит, и тех, кем правят, и ставит вопрос о подчинении власти общественному мнению в постпредставительной терминологии.
Но это «решение» может обернуться проблемой. В такой ситуации политика может, в конце концов, раствориться в представительстве. В демократии присутствия процедурный, а значит, и программный аспект демократии стирается: он сводится к форме выражения общественной жизни. Эту форму, впрочем, довольно сложно анализировать, потому что она связана не с обычной «политикой идентичностей» в классическом смысле этого понятия, а с возможностями меньшинства быть услышанным и в качестве такового принимать участие в местной общественной жизни, предлагая свои проекты и выдвигая свои требования.
При этом в сущности производится на свет нечто вроде огромного экзистенциального зеркала, чтобы отразить в нем некую обнаженную форму жизни, устранив то, что может напоминать о ее тяготах, то есть какую-нибудь другую, не сходную с нашей, жизнь. Таким образом, политика присутствия становится общественным средством избавления от тревог, чем-то вроде катарсиса. Отдавая должное несчастьям, такая политика имплицитно стремится сделать их более сносными, а параллельно этому сингуляризует истории успехов, мифологизируя их и делая общедоступными.
Но в то же время следует подчеркнуть, что нельзя говорить о модусах присутствия в единственном числе. Раз присутствие нужно воспринимать как некую политическую форму в себе, значит, природа тех ситуаций, в которых функционируют эти модусы присутствия, может полностью менять их смысл. Проявить солидарность с семьей, выставленной из своего дома, или принять у себя жертву расизма – совсем не то же самое, что показаться рядом с коммерсантом, которому грозит суд за сомнительный акт самозащиты.
Объекты сочувствия образуют тем самым политику. Даже за самыми карикатурными видами медиатизации всегда стоит выбор проявления близости с тем или иным человеком. Существует даже настоящая «конкуренция» присутствий, которая может заменять собой противостояния приверженцев различных взглядов. Демонстрация присутствия – и это стоит подчеркнуть – для самого общества тоже является средством участия в политике, причастности к местным делам. И, как результат, возникает то, что я назвал милитантизмом присутствия.
Модус присутствия может являться способом обогащения политической деятельности, расширяя формы представительства. Но, чтобы дать сочувствию настоящую политическую консистенцию, нужно, чтобы оно нашло затем средство вписаться в общее повествование, а значит, оно не должно ограничиваться обычным рядом изолированных мгновений. Оно должно вписаться в общий проект определения, что такое социальная справедливость. Делая акцент на нехватке чего-то, бедах или, наоборот, на образцовых успехах, присутствие в сущности конституирует всего лишь один из моментов демократической жизни.
Оно может играть ключевую роль в уравновешивании важности отдельных историй, признании всех ситуаций, возвращении достоинства тем, кто был лишен его, и надежды тем, кого терзают сомнения, но оно не может регулировать конфликты конкурирующих друг с другом жизненных опытов. А ведь именно в этом заключается вся суть политического: конституировать общность, регулируя различия интересов и расставляя приоритеты.
Политическое – это слагание совместной истории, а значит, оно не может ограничиваться экспозицией серии назидательных, но разнородных картин. Присутствие обретает свой демократический смысл, только если оно темпорально связано со стратегией построения более справедливой общности.
Когда присутствие возводится в абсолют и подменяет собой политику, оно, в конце концов, превращается в свою противоположность и становится ирреальным. Оно начинает представлять улетучивающийся на наших глазах мир, который может производить впечатление консистенции, только ценой постоянной перегрузки своих механизмов, неминуемо ведущей к саморазрушению. В этом берут свое начало те двусмысленные отношения, которые императив присутствия поддерживает с развитием аудиовизуальной медиатизации. Эта медиатизация образует те материальные рамки, в которых присутствие обретает свою форму.
Средства массовой информации по своей природе являются хорошими воспитателями близости. Но они также являются пружиной ее отклонений, когда эту близость возводят в абсолют. Тем не менее структурная двусмысленность доминирующих в сегодняшнем мире масс-медиа этим не ограничивается. Она также связана с тем, что в структурном отношении масс-медиа совершенно шизофреничны. Они предстают перед нами великими жрецами культа близости и в то же время разыгрывают на сцене спектакль крайней социальной дистанции.
Они придают огромное значение вниманию правящих к униженным или жертвам, восславляя всех матерей Терез планеты, и в то же время демонстрируют совершенно показную и никому не доступную роскошь. На страницах «гламурных» журналов или в телевизионных репортажах мир предстает перед нами либо закадычно близким, либо недоступно далеким, и в этой дали живут сверхбогатые и сильные мира сего. Вся остальная реальность забывается, словно лишенная консистенции. Остается только этот «тет-а-тет».
Но в нем тоже есть свой особый механизм редукции этой супердистанции – вуайеризм. Богатые и сильные мира сего предстают в недоступности своих привилегий и роскоши и в то же время, показываясь нам на глаза, превращаются в цирковых животных, утративших частную жизнь.
Аналогичное явление наблюдается и в отношении политиков. Мы наблюдаем их близость с теми или иными согражданами, и в то же время они предстают перед нами как живое приношение обществу, вокруг которого «гламурные» журналы отправляют свой первобытный культ. Близость и показ себя, в конце концов, приводят к растворению в некоем целом. В этом случае выставить себя напоказ означает не только «медиатизироваться», то есть в тривиальном смысле этого слова выйти на первый план, показать себя, – но и сделаться доступным, даже некоторым образом «потребляемым».
Образ бегущего трусцой и потеющего правителя его же и десакрализует, снижает его величие, делает его банальным и возвращает в ту массу, из которой он вышел. Наблюдать его в обыденной жизни, рассматривать фотографии папарацци или то, что за таковые выдается, дает ощущение владения ситуацией, даже некоторого контроля над ней.
Таким образом, медиатизация повседневности вместе с тем, что в обыденном языке называется «гламуризацией», со всеми ее фотографиями и искажением действительности, является также чем-то вроде ответа на кризис представительства, извращенным выражением спроса и предложения на присутствие.
Она является самопроизвольной машиной по разрушению видимости дистанций. Даже – видимостей, поскольку воссоздает их в новом, неуловимом модусе. А значит, надо учитывать, что императив присутствия может не только обновить искусство правления, дав ему действительно демократический характер и основав новую форму восприятия общественной жизни, но и оказаться матрицей губительной регрессии.
Отныне именно в виде приветливых собеседников, ловких режиссеров просчитанной близости могут возродиться прежние страшные фигуры обращения демократии против нее самой. В сущности, никогда еще не была так тонка граница между формами позитивного развития демократического идеала и условиями его отклонения. Именно там, где наиболее сильны ожидания граждан, аппетиты политиков могут оказаться ненасытней всего.
А значит, существует настоятельная необходимость перевести этот вопрос в предметную сферу постоянных общественных дебатов. Жить в демократии сегодня, как никогда прежде, предполагает сохранение ясного взгляда на условия ее манипуляций и причины ее незавершенности.
* * * * *
[1] Данная статья представляет собой главу из книги Пьера Розанваллона «Демократическая легитимность: беспристрастность, рефлексивность, близость» (Rosanvallon P. La légitimité démocratique: impartialité, réflexivité, proximité. Paris: Seuil, 2008. P. 345–359). – Примеч. перев.
[2] Так, они были в центре интеллектуальных и политических столкновений во время Французской и Американской революций.
[3] См. об этом мою работу: Rosanvallon P. Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France. Paris: Gallimard, 1998.
[4] Можно отметить, что Энн Филлипс в своей известной работе как раз и употребила в этом отношении выражение «политика присутствия», противопоставив его «политике идей» (Phillips A. The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press, 1995).
[5] Насколько я знаю, у Клиффорда Орвина можно найти одну из первых формулировок этих перемен: «Политическое сострадание, – пишет он, – зародилось вместе с современным представительным правлением. Его функцией стало подтверждать представительство, когда ничто иное уже не могло этого сделать» (Orwin Cl. Compassion // The American Scholar. 1980. Eté; фр. перев.: Orwin Cl. Compassion // Commentaire. 1988. № 43. P. 614).
[6] Ricoeur P. Le socius et le prochain // Idem. Histoire et vérité. Paris: Seuil, 1964.
[7] Ibid. P. 100.
[8] Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011.
[9] Там же. С. 113.
[10] Там же. С. 114.
[11] См. его статьи, собранные в книге: Marin L. Politique de la représentation. Paris: Kimé, 2005; а также большую работу: Idem. Le Portrait du Roi. Paris: Minuit, 1981.
[12] Idem. Le Portrait du Roi. P. 10.
[13] Ibid. P. 11.
[14] Выражение «восхождение к обобщению» означает научный метод, при котором анализ фактов приводит к порождению понятий. А также это процесс, в котором, в частности, конституируется политическое поле.
[15] Таким образом, она носит посреднический характер между процедурным подходом и подходом субстанциальным.
[16] А ведь даже прежний «казенный язык», на свой манер, умел быть открытым людскому опыту.
[17] Enseignements d’Enfantin [1831] // Œuvres de Saint-Simon et d’Enfantin. Paris, 1865–1878. T. 16. P. 89–90.
[18] См. об этом: Rancière J. La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier. Paris: Fayard, 1981.
[19] Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) – французский философ, писатель, епископ и теоретик абсолютизма, в течение 10 лет был наставником старшего сына Людовика XIV. – Примеч. перев.
[20] См.: Cornette J. Le savoir des enfants du roi sous la monarchie absolue // Halévi R. (Éd.). Le Savoir du prince, du Moyen Age aux Lumières. Paris: Fayard, 2002.
[21] Roederer P.L. Des voyages des chefs de gouvernement [1804] // Œuvres du comte P.L. Roederer. Paris, 1857. T. VI. P. 460.
[22] Religion saint-simonienne. Napoléon, ou L’homme-peuple. Paris: 1832. P. 1.
[23] См. об этом: Ménager B. Les Napoléon du peuple. Paris: Aubier, 1988; Hazareesingh S. La Légende de Napoléon. Paris: Tallandier, 2005.
[24] См. главу, посвященную легендам о Наполеоне: Touchard J. La Gloire de Béranger. Paris: Armand Colin, 1968. T. I.
[25] Эти свидетельства почерпнуты из книги: Mariot N. C’est en marchant qu’on devient président. La République et ses chefs de l’Etat, 1848–2007. Montreuil: Aux lieux d’être, 2007. P. 42–44.
[26] См.: Deslandres M. Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870. Paris, 1933. T. II. P. 509.
[27] Выражение принадлежит Николя Марио, см. его работу: Mariot N. Bains defoule. Les voyages présidentiels en province, 1882–2002. Paris: Belin, 2006. P. 133.
[28] См.: Sanson R. La République en représentation. A propos des voyages en province des présidents de la Troisième République (1879–1914) // La Francedémocratique. Mélanges offerts à Maurice Agulhon. Paris: Publications de la Sorbonne, 1998.
[29] См.: Mariot N. Propagande par la vue, souveraineté régalienne et gestion du nombre dans les voyages en province de Carnot (1888–1894) // Genèses. 1995. Septembre. В этом отношении будет интересным подчеркнуть, что Буланже был первым политиком, который, агитации ради, начал массово распространять среди избирателей свои фотографические портреты (English D.E. Political Uses ofPhotography in the Third French Republic, 1871–1914. Ann Arbor: UMI Research Press, 1981).
[30] Эхо этого неприятия позднее напрямую отзовется в отношении к генералу де Голлю в начале Пятой республики.
[31] Pilhan J. L’écriture médiatique // Le Débat. 1995. № 87.
[32] См. об этом весьма показательную статистику активности французских президентов во время их поездок по стране, которая охватывает более одного столетия: Mariot N. C’est en marchant qu’on devient président. P. 291.
[33] Сострадательный консерватизм. – Примеч. перев.
[34] Olasky M. Renewing American Compassion. New York: The Free Press, 1996; см. также: Idem. Compassionate Conservatism: What it Is, What it Does, and How it Can Transform America. New York: The Free Press, 2000 (с предисловием Джорджа Буша).
[35] См. об этом эмблематическую работу: Murray Ch.A. Losing Ground: American Social Policy, 1950–1980. New York: Basic Books, 1984.
[36] См. интересные размышления об этом в работе: Mongin O., Vigarello G.Sarkozy, corps et âme d’un président. Paris: Perrin, 2008.
[37] См.: Polletta Fr. It Was Like a Fever: Storytelling in Protest and Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 2006; Salmon Ch. Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Paris: La Découverte, 2007.
[38] См.: Hibbing J.R., Theiss-Morse E. Stealth Democracy: Americans’ Beliefs about How Government Should Work. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Перевод с французского Сергея Рындина
Источник: Неприкосновенный запас