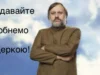До нынешнего момента каждая культура воспитывала (дисциплинировала/образовывала) своих собственных представителей и гарантировала им гражданский мир в форме государственной власти, однако отношения между различными культурами и государствами были постоянно омрачены потенциальной войной, а любая стабильность казалась не более чем временным перемирием. По мысли Гегеля, кульминация всей этики государства состоит в высшем акте героизма, в готовности пожертвовать жизнью за свое национальное государство, то есть дикие, варварские отношения между государствами служат основанием этической жизни внутри этих государств.
Однако как только мы полностью принимаем, что живем на космическом корабле «Земля», на первый план выходит задача окультуривания самих культур, развития всеобщей солидарности и взаимопомощи между всеми человеческими сообществами. Необходимы радикальные политико-экономические изменения и новые формы отношений с окружающим миром. Эта задача усложняется эскалацией сектантского, религиозного и этнического «героического» насилия, сопровождаемого готовностью пожертвовать собой (и миром) ради одной конкретной Цели. Ален Бадью писал, что контуры будущей войны уже прочерчены: Соединенные Штаты и их западнояпонская клика с одной стороны, Китай и Россия с другой, атомное оружие повсюду. Мы не можем не вспомнить утверждение Мао Цзэдуна: «Или война вызовет революцию, или революция предотвратит войну».
Самую большую претензию будущей политической работы определить следующим образом: впервые в истории должна осуществиться первая гипотеза — революция предотвратит войну, — а не вторая — война вызовет революцию. Вторая гипотеза была уже реализована в России в контексте Первой мировой войны и в Китае — в контексте Второй. Но какой ценой! И с какими длительными последствиями (Badiou 2017: 56–57). Нельзя не прийти к выводу, что для того, чтобы окультурить нашу культуру, необходимо радикальное изменение общества — революция.
Мы не можем позволить себе надеяться, что новая война приведет к новой революции: новая война с гораздо большей вероятностью будет означать конец цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, — а те, кто выживут, организуются в небольшие авторитарные группы. Однако главным препятствием для окультуривания культур является не столько сектантское фундаменталистское насилие, сколько его (кажущаяся) противоположность, циничное безразличие.
В октябре 2017 года Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения в ответ на то, что он назвал «национальным позором и человеческой трагедией»: нарастающая опиумная эпидемия в Соединенных Штатах, «худший наркотический кризис в американской истории», вызванный массовым назначением опиоидных обезболивающих:
Соединенные Штаты на данный момент являются главным потребителем этого типа препаратов, употребляя больше опиоидных лекарств на душу населения, чем любая другая страна. Никакая часть нашего общества — ни молодые, ни пожилые, ни богатые, ни бедные, ни городские жители и ни сельские — не свободна от этой чумы наркозависимости (Guardian 2017a).
Хотя Трамп настолько далек от марксизма, насколько это возможно представить, его заявление не может не воскресить в памяти знаменитую Марксову характеристику религии как «опиума народа» — характеристику, которую стоит здесь процитировать:
Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным ореолом которой является религия (Маркс, 1957).
Можно сразу отметить, что Трамп (который хочет начать войну с опиоидами с запрета самых опасных препаратов) — очень вульгарный марксист, похожий на тех сторонников жесткой линии в коммунизме (таких как Энвер Ходжа или красные кхмеры), которые пытались подорвать религию, попросту делая ее незаконной.
Подход Маркса более тонкий — вместо того чтобы напрямую бороться с религией, коммунисты задаются целью изменить общественную ситуацию (эксплуатации и угнетения), которая порождает потребность в религии. Маркс тем не менее все еще слишком наивен в отношении не только своей идеи религии, но и других видов опиума народа. Радикальный ислам — это действительно показательный пример религии как опиума народа — ложная конфронтация с капиталистической современностью, позволяющая мусульманам пребывать в идеалистическом сне, пока глобальный капитализм опустошает их земли, — и то же самое можно сказать о христианском фундаментализме. Однако сегодня в западном мире существуют два других вида опиума народа: опиум и народ.
Как демонстрирует подъем популизма, опиум народа — это также и сам «народ», смутная популистская мечта, призванная затуманить наши собственные противоречия. И наконец, для многих из нас опиум народа — это сам опиум, побег в наркотический дурман — именно о нем говорит Трамп. Откуда берется эта потребность в опиумном побеге? Перефразируя Фрейда, нам нужно взглянуть на психопатологию повседневности глобального капитализма. Еще одной формой современного опиума народа является бегство в псевдосоциальную цифровую вселенную «Фейсбука», «Твиттера» и т. д.
В речи перед выпускниками Гарварда в мае 2017 года Марк Цукерберг сказал слушателям: «Наша работа — создать цель в жизни», — и это человек, который создал «Фейсбук», мощнейший инструмент для бесцельной траты времени! Как показал Лорен де Суттер (de Sutter 2018), химия в ее научном варианте становится частью нас: широкие аспекты нашей жизни характеризуются тем, что наши эмоции управляются наркотиками — от каждодневного использования снотворного и антидепрессантов до тяжелых наркотиков.
Нас не просто контролируют непроницаемые общественные силы; сами наши эмоции отданы на откуп химической стимуляции. Ставки этого химического вмешательства двойные и противоречивые: наркотики помогают нам держать под контролем внешнее возбуждение (шок, тревогу и т. д.); делают нас нечувствительными к ним и создают искусственное возбуждение, если мы в депрессии и лишены желания.
Препараты, таким образом, противодействуют сразу двум противоположным угрозам нашей повседневной жизни: перевозбуждению и депрессии, и крайне важно отметить, как эти два способа их использования связаны с дихотомией приватного и публичного: в развитых западных странах наша общественная жизнь испытывает все большую нехватку в коллективном возбуждении (образцом которого является истинная политическая вовлеченность), в то время как наркотики заполняют эту нехватку приватными (или, скорее, интимными) формами возбуждения — наркотики осуществляют эвтаназию общественной жизни и вносят искусственное возбуждение в частную жизнь. Страной, в которой наиболее отчетливо проявляется такого рода напряжение, является Южная Корея. Вот что Франко Берарди рассказывает о своем недавнем путешествии в Сеул:
Корея — это ground zero мира, светокопия будущего планеты. […] После колонизации и войн, после диктатуры и голода южнокорейский дух, освобожденный от бремени естественного тела, гладко вошел в цифровую сферу со значительно меньшим культурным сопротивлением, чем практически все прочие народы мира. В опустошенном культурном пространстве корейский опыт отмечен крайней степенью индивидуализации и в то же время направлен на окончательное скручивание коллективного духа. Эти одинокие монадные прогулки в городском пространстве в нежном и непрерывном взаимодействии с изображениями, твитами и играми, исходящими из их маленьких экранов, идеально изолированные и идеально вплетенные в мягкий интерфейс потока. […]
В Южной Корее самый высокий процент самоубийств в мире. Самоубийство — одна из наиболее распространенных причин смерти для людей младше 40 лет в Южной Корее. Интересно, что за последнее десятилетие количество самоубийств увеличилось вдвое. […] В течение жизни двух поколений их жизненные условия определенно улучшились в плане дохода, питания, свободы и возможности путешествовать за границу. Но ценой этого улучшения были опустошение повседневности, чрезмерное ускорение ритмов, крайняя индивидуализация жизней и прекарность работы, которая также означает несдерживаемую конкуренцию. […]
Интенсификация рабочего ритма, опустынивание ландшафта и виртуализация эмоциональной жизни соединяются и доводят до такой степени одиночества и отчаяния, которую сложно осознанно отрицать и которой ничего нельзя противопоставить (Berardi 2015: 186–195).
Впечатления Берарди от Сеула дают нам образ места, лишенного истории, безмирного места. Бадью заметил, что мы живем в социальном пространстве, которое все больше и больше переживается как безмирное. Возможно, именно здесь можно обнаружить одну из главных опасностей капитализма: хотя он глобален и опоясывает весь мир, он поддерживает в строгом смысле безмирную идеологическую констелляцию, лишая подавляющее большинство людей какой бы то ни было осмысленной когнитивной картографии. Вот почему миллионы ищут убежища в наших западных видах опиума. Причины этого — не только новая бедность и отсутствие перспектив, но и невыносимое давление Сверх Я в его двух аспектах: императив добиться профессионального успеха и императив насладиться жизнью во всей ее полноте.
Возможно, второй аспект даже более насто-раживающий: что остается от нашей жизни, когда наше бегство в личное удовольствие само оказывается жестким предписанием? Короче говоря, не является ли сам Трамп — то, как он действует, испуская бесконечные твиты и т. п., — причиной заболевания, которое он пытается вылечить. В 60-х годах девизом ранних экологических движений было: «Думай глобально, действуй локально!» В своей политике суверенности, отражающей позицию Северной Кореи, Трамп обещает сделать абсолютно противоположное — превратить Соединенные Штаты в «глокальную» силу, но на этот раз под лозунгом: «Действуй глобально, думай локально!» Следует добавить, что мы думаем локально, потому что мы заперты в платоновской пещере идеологии — и как же выбраться из нее? Здесь перед нами разворачивается замысловатая диалектика свободы и рабства:
Выход из пещеры начинается, когда один из узников не просто освобожден из своих цепей (как показывает Хайдеггер, этого вовсе недостаточно, чтобы освободить его от либидинальной привязанности к теням), но когда его заставляют выйти. Ясно, что здесь должно быть место для (либидинальной, но также эпистемологической, политической и онтологической) функции господина. Это может быть только господин, который не говорит мне, что конкретно я должен делать, и не тот, чьим инструментом я мог бы стать, но это должен быть тот, кто просто «предоставляет меня самому себе». И в каком-то смысле можно сказать, что это может быть связано с Платоновской теорией припоминания (памяти о том, чего никогда не знал) и подразумевает, что настоящий господин просто утверждает или позволяет мне утверждать, что «я могу сделать это», не говоря мне, что именно, и, таким образом, не говоря мне (слишком много) о том, кто я есть (Франк Руда, из личной беседы).
Руда выражает здесь очень тонкую мысль: дело не столько в том, что, если я предоставлен сам себе в пещере, даже без цепей, я предпочитаю остаться там и поэтому господину следует выгнать меня оттуда, — я должен быть выгнанным по собственному желанию, примерно так, как, когда субъект входит в психоанализ, он добровольно решается на это, пусть и в очень специфическом смысле. Как только мы отсылаем к господину в психоаналитическом контексте, встает вопрос: означает ли это, что тот, кто нуждается в господине, всегда уже находится в позиции анализанта?
Если в политическом смысле такой господин нужен ему, чтобы стать самим собой (используя формулу Ницше), и это может быть структурно связано с освобождением заключенного из пещеры (с выталкиванием его оттуда, когда цепи сняты, а он все еще не хочет уйти), встает вопрос, как связать это с идеей, что анализант должен быть, по сути, добровольцем (а не просто рабом или невольником).
В общем, должна быть диалектика господина и добровольца/цев: диалектика, потому что господин в некоторой степени конституирует добровольцев как добровольцев (освобождает их от ранее, казалось бы, непререкаемой позиции), таким образом, что они становятся добровольными последователями предписаний господина, в то время как сам господин становится ненужным — но, возможно, лишь на какоето время, а затем необходимо повторить тот же самый процесс (человек никогда не покидает пещеру насовсем, так что ему постоянно нужно снова встречать господина и испытывать связанное с этим беспокойство; всегда должна быть перерасстановка, если все снова застрянет или станет мертвецки привычным) (Франк Руда, из личной беседы).
Еще больше усложняет картину следующее: Капитализм опирается по большей части на неоплачиваемый, структурно «добровольный» труд. Как говорил Ленин, есть добровольцы и «добровольцы», так что, может быть, стоит не только различать разные типы фигур господина, но также связывать их (если отсылка к психоанализу здесь уместна) с различными пониманиями добровольца (то есть анализанта). Даже анализант как доброволец должен быть какимто образом принужден к анализу.
Казалось бы, это снова выводит на сцену классическое прочтение диалектики раба и господина, но нельзя забывать, что как только раб понимает, что он раб, он перестает быть рабом, в то время как добровольный работник при капитализме понимает, кто он есть, но это ничего не меняет (капитализм интерпеллирует людей как «ничто», добровольцев и тому подобное) (Франк Руда, из личной беседы).
Два уровня добровольной деятельности (и одновременно два уровня servitude volontaire) различны не только по содержанию (рыночные механизмы, с одной стороны, и освобождение, с другой), но и по форме. В капиталистическом рабстве мы просто чувствуем себя свободными, тогда как в случае с подлинным освобождением мы принимаем добровольное рабство как служение делу, а не только самим себе. В условиях сегодняшнего циничного функционирования капитализма я могу прекрасно знать, что делаю, и продолжать делать это, а освобождающая часть моего знания остается подвешенной, тогда как в подлинной диалектике освобождения осознание моей ситуации — это уже первый шаг к освобождению.
При капитализме я порабощен, именно когда «чувствую себя свободным», это чувство является самой формой моего рабства, тогда как в освободительном процессе я свободен, когда «чувствую себя рабом», то есть само чувство порабощенности уже свидетельствует о том, что в основании моей субъективности я свободен: только с позиции свободного субъекта я могу увидеть и осознать все ничтожество своего рабского положения. Таким образом, мы получаем два вида ленты Мёбиуса: если мы следуем капиталистической свободе до конца, она превращается в предельную форму рабства, но если мы хотим вырваться из капиталистического добровольного рабства, наше притязание на свободу снова должно принять форму ее противоположности, добровольного служения делу.
Если Маркс определял буржуазные права человека как «свободу-равенство-братство и Бентама», то пролетарская и по-настоящему левая версия должна звучать как «свобода-равенство-свобода и… УЖАС» [1] (ужас быть оторванным от самоудовлетворенности буржуазной жизни и ее эгоистической борьбы, ужас как принуждение возвы-ситься до уровня всеобщего освобождения). Бентам или ужас — это, возможно, наш главный выбор. Почему нужен ужас, или террор? По-тому что цепи в пещере сегодня имеют особую форму, отличную от традиционно функционирующей идеологии.
Чтобы быть действенным, каждое проявление идеологии должно быть непоследовательным, то есть его эксплицитные нормы должны быть дополнены высокоуровневыми имплицитными нормами, говорящими нам, что делать с эксплицитными (когда подчиняться им, а когда нарушать их). Другими словами, идеология состоит не только из эксплицитной ткани; она всегда включает в себя еще и плотную сеть непристойной изнанки, которая нарушает ее эксплицитные нормы, — эта непоследовательность как раз и делает ее идеологией.
Роберт Пиппин недавно разъяснил, как этот конфликт работает в наши дни, он указал, каксложность нашей ситуации стала причиной появления чегото беспрецедентного; того, чему можно найти объяснение только в философии Гегеля с ее способностью трактовать «позитивную» роль негативного и реальность группового фактора и коллективной субъективности. Жизнь в современных обществах, кажется, вызвала потребность в исключительно рассредоточенных коллективных доксастических состояниях, повторении разнообразных персонажей в драме самообмана, рассказанной «Феноменологией». В этой драме мы искренне верим в то, что привержены фундаментальным принципам и максимам, к которым мы на самом деле ни в каком истинном смысле не привязаны, учитывая то, что мы делаем. […]
Можно сознательно и искренне признавать и провозглашать принципы, но, учитывая то, какие это принципы, они не могут быть интегрированы в жизнеспособную, связную форму существования. Социальные условия для самообмана в этом контексте могут помочь показать, что неправильно описывать эту проблему как ситуацию, в которой множество индивидуальностей случайным образом впадают в самообман. Анализ не морален, не концентрируется на индивидуальностях. Его нужно понимать как предмет исторического Духа (Pippin 2017: 146–147).
Ключевая позиция в этом отрывке — акцент Пиппина на «позитивной роли негативного и реальности группового фактора и коллективной субъективности»: «негативное» в этом случае есть диссонанс, промежуток между эксплицитной идеологической тканью и актуальной практикой проживания, а ее позитивная роль означает, что этот диссонанс не препятствует полной актуализации идеологической системы, но «делает ее жизнеспособной», является условием ее действительного функционирования — если мы уберем негативную сторону, эта система разрушится. «Реальность группового фак-тора и коллективной субъективности» означает, что мы имеем дело не просто с индивидуальными искажениями и несовершенствами — в таком случае всему виной были бы индивиды, их испорченность и моральное разложение, а лечение заключалось бы в их моральном совершенствовании.
Мы же имеем дело с диссонансом, вписанным в «объективную» форму самого социального духа, в базовую структуру социальных обычаев. Такие коллективные формы самообмана действуют как формы объективного социального бытия и, следовательно, в какомто смысле «истинны», даже если они ложны. В тексте «Америка день за днем» (1948) Симона де Бовуар отметила: Многие расисты, игнорируя строгость науки, настойчиво провозглашают, что, даже если психологические причины не были установлены, по факту чернокожие являются людьми низшей расы. Достаточно поездить по Америке, чтобы убедиться в этом (цит. по: Sandford 2006: 42).
Ее позицию по поводу расизма часто неверно понимали. Так, Стелла Сэнфорд утверждает, что «ничто не оправдывает принятие […] Симоной де Бовуар “факта” этой низшей расы». Учитывая ее экзистенциалистскую философскую рамку, можно было бы ожидать, что Бовуар будет говорить об интерпретации существующих физиологических различий с точки зрения низости или превосходства […] или укажет на ошибку в связи с использованием оценочных суждений «низший» и «высший» для именования предполагаемых свойств человека, как бы «подтверждая данность» (Sandford 2006: 49).
Понятно, что именно здесь раздражает Сэнфорд. Она осознает, что утверждение Бовуар о фактической принадлежности чернокожих к низшей расе нацелено на чтото большее, чем простой социальный факт, что на американском Юге того (и не только) времени белое большинство обращалось с чернокожими как с низшими, и, в некотором смысле, они и были таковыми. Но ее критическое решение, побуждаемое заботой о том, чтобы не допустить расистских утверждений о фактической принадлежности чернокожих к низшей расе, состоит в том, чтобы свести их подчиненное положение к проблеме интерпретации и суждений белых расистов и отдалить его от вопроса о самом их бытии.
Это смягчающее различение, однако, упускает из вида одно действительно четкое измерение расизма: «бытие» чернокожих (как и белых или кого угодно) — это социо-символическое бытие. Когда белые обращаются с ними как с низшей расой, это действительно превращает их в низших на уровне их социо-символической идентичности. Другими словами, белая расистская идеология демонстрирует перформативную действенность — это не просто интерпретация того, кто такие чернокожие, но интерпретация, которая определяет само бытие и социальное существование интерпретируемых субъектов.
Теперь мы можем точно определить, что заставляет Сэнфорд и других критиков Бовуар сопротивляться ее формулировке, что черные действительно были низшими: само это сопротивление является идеологическим. В основе этой идеологии лежит страх, что если уступить в этом, то мы потеряем внутреннюю свободу, автономию и достоинство человеческой индивидуальности.
Вот почему такие критики настаивают, что черные не являются низшей расой, что они просто «инфериоризированы» насилием, налагаемым на них белым расистским дискурсом. То есть они подвержены навязыванию извне, но это навязывание не затрагивает основания их бытия, и, следовательно, они могут сопротивляться (и сопротивляются) ему как свободные, автономные агенты в своих действиях, мечтах и проектах.
Если посмотреть на проблему равенства с чисто научной точки зрения, то почему «силы разума» (каким бы проблематичным способом мы их ни определяли) должны быть одинаковыми у всех рас? Равенство — это этикополитическая норма, а не факт: люди равны вопреки своим биологическим и культурным различиям. Можно пойти еще дальше и спросить: в чем именно заключается равенство? Что мы имеем в виду, когда заявляем, что люди равны, что они разделяют одну и ту же свободу, разум и достоинство?
Если это равенство как норма есть исторический факт, чтото, что появилось только в современности, тогда люди стали равными только в современности, когда равенство стало нормой. Итак, еще раз, когда мы требуем равенства, на чем мы основываем это требование? Является ли это естественным фактом (и если да, то в каком смысле?), фактом (или, скорее, априорным свойством) человеческой природы, или (как пытался показать Хабермас) нормативной структурой, предполагаемой фактом символической коммуникации, или, опять же, нормой, которая появляется в современности (и которая, следовательно, не имеет значения в премодерных цивилизациях, так что считать ее универсальной — это, по сути, форма культурного колониализма)?
Более того, если так называемая аксиома равенства является частью определенной исторической констелляции, то в каком смысле мы можем утверждать, что она обладает этическим превосходством по отношению к более традиционным (или современным научным) формам иерархии? Не является ли каждое утверждение ее превосходства циклическим (в том смысле, что оно заранее утверждает то, что пы-тается продемонстрировать)?
Гегелевский ответ состоял бы в том, что равенство в свободе имманентно происходит из прагматических противоречий, присущих всем предыдущим понятиям справедливости, — но готовы ли мы все еще поддерживать «евроцентричное» понятие прогресса, которое лежит в основе этого подхода? Пиппин справедливо утверждает, что гегелевское описание такого коллективного самообмана больше подходит нашему времени, чем поиск возможной актуальности некоторых гегелевских позитивных и институциональных решений.
Однако с диагнозом Пиппина есть одна проблема: он остается внутри горизонта гегелевской «прогрессивной» диалектики, в которой обнаружение непоследовательности приводит к самоотмене, в то время как в реальной жизни диссонанс идеологической формации в основном работает как последнее прибежище ее стабильности — только в определенной ситуации (перемены в идеологической чувствительности) понимание того, что наша идеологическая система не гармонична, ведет к ее распаду. (Например, хотя рабство было в очевидном диссонансе с христианской моралью, прошло много времени, прежде чем оно стало неприемлемым для большинства).
Папа Франциск обычно озвучивает правильные интуиции в вопросах теологии и политики. Недавно, однако, он допустил серьезную ошибку, поддержав идею некоторых католиков изменить строчку в «Отче наш», где Бога просят «не ввести нас во искушение»:
Это неверный перевод, потому что он представляет Бога как когото, кто вводит во искушение. Это я падаю, а не он толкает меня в искушение, чтобы увидеть, как я упал. Отец не делает этого, отец по-могает тебе немедленно встать. Это Сатана вводит нас в искушение, это его ведомство (Guardian 2017b).
Итак, понтифик предлагает нам следовать примеру католической церкви во Франции, которая вместо этого использует фразу «не дай нам впасть в искушение». Как бы убедительно ни звучала эта линия аргументации, она упускает из виду глубокий парадокс христианства и этики. Разве Бог не вводит нас во искушение еще в раю, где он предостерегает Адама и Еву не есть с древа познания? Почему он вообще помещает туда это дерево, а потом еще и привлекает к нему внимание? Разве он не знал, что человеческая этика может пробудиться только после падения? Многие самые вразумительные теологи и христианские писатели, от Кьеркегора до Поля Клоделя, прекрасно понимали, что искушение в самом его основании появляется в форме Блага — или, как Кьеркегор говорит об этом в отношении Авраама, которому приказано казнить Исаака: «здесь само этическое является искушением» (Кьеркегор 1993: 58).
Не является ли искушение (ложным) Благом тем, что характеризует все формы религиозного фундаментализма? Вот исторический пример, который, возможно, вызовет удивление: убийство Рейнхарда Гейдриха. Чехословацкое правительство в изгнании в Лондоне вознамерилось убить Гейдриха; Ян Кубиш и Йозеф Габчик, возглавлявшие команду, ответственную за эту операцию, были парашютированы неподалеку от Праги. 27 мая 1942 года Гейдрих направлялся в свое ведомство. Он сидел со своим шофером в открытой машине (как бы демонстрируя смелость и доверие). Когда на железнодорожном узле в пражском пригороде машина притормозила, Габчик встал перед машиной, прицелился из автомата, но его заело. Вместо того чтобы приказать своему водителю уехать, Гейдрих попросил остановить машину и решил ответить на нападение.
Кубиш бросил бомбу в остановившуюся машину; взрыв ранил и Гейдриха, и Кубиша. Когда дым рассеялся, Гейдрих выбрался изпод обломков с пистолетом в руке; он гнался за Кубишем полквартала, но ослабел и упал. Он отправил своего шофера Кляйна преследовать Габчика пешком и, все еще держа пистолет в руке, схватился за правый бок, который сильно кровоточил. Чешская женщина пришла на помощь Гейдриху и остановила фургон доставки; сначала его поместили в водительский салон фургона, но Гейдрих пожаловался, что движение фургона причиняет ему боль, поэтому его положили в кузов фургона, на живот, и быстро отвезли в ближайшую больницу… (По чистой случайности, хотя Гейдрих умер пару дней спустя, шанс, что он выживет, был велик, так что женщина могла войти в историю как спасшая Гейдриху жизнь.)
В то время как милитаристски настроенные сторонники нацистов подчеркнули бы личную смелость Гейдриха, меня больше всего интересует роль неизвестной чешской женщины: она помогла Гейдриху, который лежал один в крови без военной или полицейской защиты. Знала ли она, кем он был? И если да, и если она не была сторонницей нацистов (две наиболее вероятные догадки), то почему она это сделала? Была ли это полуавтоматическая реакция человеческого сострадания, помощи соседу в беде, безотносительно того, кто он или она? Должно ли сострадание перевесить осознание того факта, что этот «сосед» — один из главных нацистских преступников, ответственный за тысячи (а позднее за миллионы) смертей?
Мы сталкиваемся здесь с принципиальным выбором между абстрактным либеральным гуманизмом и этикой, которую предполагает радикальная эмансипаторная борьба: если мы идем до конца в либеральном гуманизме, мы потакаем худшим из преступников; а если мы пойдем до конца в неравнодушной по-литической ангажированности, мы окажемся на стороне эмансипаторной универсальности — в случае с Гейдрихом для бедной чешской женщины действовать универсально означало бы противостоять ее состраданию и попытаться прикончить раненого Гейдриха…
Подобные тупики представляют собой материю реальной вовлеченной этической жизни, и, если мы исключим их как проблематичные, мы остаемся с безжизненным, доброжелательным Священным Писанием. За этим исключением кроется травма Книги Иова, в которой Бог и Сатана напрямую организуют разрушение жизни Иова, чтобы проверить его преданность. Некоторые христиане утверждают, что Книга Иова должна быть поэтому исключена из Библии как языческое богохульство. Однако, прежде чем мы поддадимся этой политически корректной этической чистке, нам следует остановиться на минуту и подумать, что мы теряем.
Если мы хотим сохранить христианский опыт живым, нам надо противиться искушению вычистить из него все «проблемные» места — они являются той сутью, которая дарует христианству невыносимое напряжение истинной жизни. То же относится и к жизнеспособности государства. Как правильно отметил Фредрик Джеймисон, «Антигона» — это не история распада органического единства традиций (Sittlichkeit), разделения этого единства на общественные и частные (семейные) традиции (Jameson 2010: 75–95). Разрыв (этический конфликт), который описывается в «Антигоне», скорее является конститутивным для самого общественного порядка. Из-за этого ограничения Пиппин также, кажется, упускает весь масштаб сегодняшней формы самообмана, когда описывает его в количественных терминах («еще более распространенный феномен» и так далее):
Но коллективный самообман того рода, который исследует Гегель, — это [сегодня] другой и, возможно, даже более распространенный феномен. «Политические деятели представлены и представляют себя, — предполагает [Бернард] Уильямс, — как актеры в мыльной опере, играющие роли, при этом ни притворяясь цинично, что представляют позиции, о которых знают, что те ложны (не всегда или в основном, а в любом случае), ни, принимая во внимание театральность, преувеличение, “позирование” и риторику “слишком большого протеста”, входя в эти роли комфортно и естественно». Описание Уильямса запоминающееся. «Их зовут по именам или дают прозвища, как персонажам мыльных опер, такие же небрежно очерченные личности, такие же основания испытывать триумф или унижение, которые схематично соотносятся с действиями других персонажей.
В них верят, как верят в персонажей в мыльной опере: принимают приглашение наполовину верить им». Он продолжает рассуждать, что «политики, медиа и публика сговариваются, чтобы притворяться, что важные реальные вопросы рассматриваются, что имеет место ответственное обращение к реальному миру. И конеч-но, ничего подобного не происходит. Вся стратегия выстроена во-круг того, чтобы избегать этого». […] можно сказать, что Дух — в этом случае общинный Дух народа — в его саморепрезентациях вовлекается в коллективный самообман. […] мы находимся именно в такой ситуации, в анонимных массовых обществах, в которой отсутствие того, что, согласно Гегелю, приравнивается к истинной общности, Sittlichkeit, является ощутимым, а не просто какимто неопределенным отсутствием (Pippin 2017: 134–135).
Однако тот факт, что в наших «анонимных массовых обществах» отсутствие Sittlichkeit «является ощутимым, а не просто какимто неопределенным отсутствием», ни в каком смысле не устраняет возможность, чтобы Sittlichkeit работала здесь как ретроактивная мечта, скрывающая то, что реальность каждой Sittlichkeit предполагает диссонансы. Более того, на самом ли деле процитированные пассажи из Уильямса, описывающие политических деятелей как персонажей мыльной оперы, доносят то, что обещают донести? На самом ли деле они описывают новую форму морального разложения? Не является ли то, что «политики, медиа и публика сговариваются, чтобы притворяться, что важные реальные вопросы рассматриваются, что имеет место ответственное обращение к реальному миру», свойством каждой идеологии в ее реальном действии? В каждой идеологии четкое разделение между обманываемыми и обманщиками размыто, так как обманываемые соглашаются с иллюзией и даже желают быть обманутыми.
Сегодня мы имеем дело не просто с большей порцией того же самого, но с качественно новой формой диссонанса: диссонанса, открыто признаваемого и по этой самой причине считающегося несущественным, подобно пепельнице, которая стоит рядом со знаком «курение запрещено». Вспомним дебаты о пытках — не напоминает ли позиция властей Соединенных Штатов следующее высказывание: «Пытки запрещены, а вот инструкция, как проводить частичное утопление (waterboarding)»? Парадокс, таким образом, в наши дни состоит в том, что в какомто смысле обмана стало меньше, чем было при традиционном функционировании идеологии: на самом деле никто не обманывается. В этот момент мы достигаем высшей иронии того, как идеология функционирует сегодня — она проявляется именно как своя противоположность, как радикальная критика идеологических утопий.
Главенствующая идеология сегодня является не позитивным видением какоголибо утопического будущего, но циничным бездействием, принятием того, чем «мир на самом деле является», сопровождающимся предупреждениями, что наше желание изменить его (слишком сильно) приведет лишь к тоталитарному ужасу. Любое видение другого мира отвергается как идеология. Как замечательно и точно сформулировал Ален Бадью, главная функция идеологической цензуры сегодня состоит не в разрушении реального сопротивления — это работа репрессивных государственных аппаратов, — но в разрушении надежды, в том, чтобы немедленно осудить каждый критический проект как открывающий дорогу, в конце которой находится какойнибудь ГУЛАГ.
Именно это недавно имел в виду Тони Блэр, когда спрашивал: «Можно ли описать такую политику, которую я бы назвал постидеологической?» (цит. по Knight 2017). Чтобы понять, как идеология функционирует в ее традиционном модусе, известное выражение «нужно быть тупым, чтобы этого не видеть!» должно быть перевернуто: нужно быть тупым, чтобы видеть это. Видеть что? Дополнительный идеологический элемент, который придает смысл неясной ситуации. В случае с антисемитизмом, например, нужно (быть достаточно тупым, чтобы) увидеть «еврея» как тайного агента, который тайно дергает за веревочки и контролирует социальную жизнь. Сегодня, однако, сама идеология, в ее доминирующем циничном функционировании, заявляет, что «нужно быть тупым, чтобы видеть это». Видеть что? Надежду на радикальные перемены.
*****
[1] В оригинале: “LibertyEqualityFreedom and … TERROR”.
Библиография
Кьеркегор, Сёрен (1993). Страх и трепет. М.: Республика.
Маркс, Карл (1957). К критике Гегелевской философии права, в Маркс, Карл, Энгельс, Фридрих, Собрание сочинений в 50 т., т. 1. М.: Политиздат.
Badiou, Alain (2017). Je vous sais si nombreux. Paris: Fayard.
Beradi, Franco “Bifo” (2015). “A Journey to Seoul”. In Heroes: Mass Murder and Suicide, 185–197. London: Verso.
Guardian (2017a). “Trump Declares Health Emergency over Opioids but No New Funds to Help.” October 26, 2017. https://www.theguardian.com/us-news/2017/oct/26/trump-opioids-crisis-health-emergency-funds.
Guardian (2017b). “Lead Us Not into Mistranslation: Pope Wants Lord’s Prayer Changed”. December 8, 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/dec/08/lead-us-not-into-mistranslation-pope-wants-lords-prayer-changed.
Jameson, Fredric (2010). The Hegel Variations: On the Phenomenology of Spirit. London: Verso.Knight, Sam (2017). “The Return of Tony Blair”. New Yorker, May 12, 2017. https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/the-return-of-tony-blair?mbid=social_twitter.
Pippin, Robert (2017). “Hegel on the Varieties of Social Subjectivity”. In German Ideal-ism Today, ed. Markus Gabriel and Anders Moe Rasmussen, Berlin: De Gruyter, 135–151.
Sandford, Stella (2006). How to Read Beauvoir. London: Granta Books.de Sutter, Laurent (2018). Narcocapitalism. Cambridge: Polity Press.

Перев. с англ. Марии Бикбулатовой
Источник: Stasis Journal