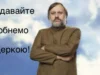Российский футуролог Александр Неклесса в своей статье описывает «гибридный мир», который он предлагает в качестве одного из возможных определений мироустройства XXI века. Он описывает алгоритмы выживания и лидерства в новой реальности гибридного мира. Для наших читателей этот текст важен тем, что он дает некую рамку стратегирования. Тем более, что к прогнозам Неклессы прислушиваются в Кремле.
Доминанта развития цивилизации сдвигается от пространственной экспансии к интенсивной колонизации земель будущего. Стратегическое преимущество переходит к системам, способным продуктивно функционировать в ситуациях неопределенности. Геополитика замещается геоэкономикой, а в подвижной среде с эластичной архитектурой доминирует социокультурная гравитация (геокультура), ускоряется перераспределение человеческих ресурсов (геоантропология). Проактивная личность, частные и партнерские институты приходят на смену скованному регламентами Левиафану.
Бунт пассионариев сопрягается с восстанием элит, акцент переносится с обезличенных учреждений на мобильные сообщества, конструктивные и деструктивные, приспособленные к эффективной деятельности в условиях перманентного транзита. Цивилизационная неоднородность Ойкумены связана не только с разным уровнем социального и технологического развития, глобализация – это горизонтальное совмещение культур и конфессий, чреватое конфликтностью и десинхронизацией истории.
Трансграничные сообщества, аграрные, индустриальные, постиндустриальные страны, адаптируясь к критическим обстоятельствам, различным образом реализуют потенции агрессии и обороны.
Военные конфликты последнего времени происходили преимущественно в афразийской зоне нестабильности, но не только: сирийская чересполосица, подвижное “Исламское государство” (запрещенное в РФ), дестабилизированная Ливия, вооруженные столкновения в ряде других государств Африки, в Йемене, Ираке, Афганистане, а также на Донбассе.
В сфере военного искусства растет значение сложных аппаратно-технических средств, неординарных концептов, управленческих инноваций, мастерства комбинаций, провоцируя, в свою очередь, технологические инициативы и социальные интервенции. Синтез военных и гражданских практик рискует утвердиться в качестве социополитической реальности и культурной нормы.
Софистика гибридного мира подрывает властный консенсус и моральный императив современности, а ядерное оружие из закрывающей войну технологии может стать зонтиком для коррумпирующих мир действий. Сбой в доверии к контрактам безопасности способен привести к банкротству организации международного сообщества.
КРИЗИС МИРОСИСТЕМЫ
На плечах нового века рвется и расползается пиджак современности. Регламенты и протоколы уходящей эпохи лишь амортизируют перемены. Футуристичный ландшафт постсовременности – институциональные коридоры без стен – схож с иллюзорным общежитием ланей и львов, разделенных незримыми барьерами на лужайках Бронкса. Zeitgeist все чаще напоминает терзания нерешительного кафкианского “землемера” К., взыскующего официального приглашения в Замок. Главный же вопрос эона: “А что, так можно было?”
Постглобализм меняет горизонтальную, пространственную экспансию на вертикальную устремленность – освоение будущего. В обновляемой социальной среде доминируют персоналии и процессы, а не учреждения и состояния. Новый статус личности предопределяет переворот в организации общества (подчеркивание – редакции ПК). Многообразие индивидов и пестрота сообществ – это великое смешение пересекающихся, разновекторных, открытых влияниям направлений движения: подавленное и вытесненное возвращается в социальный и культурный оборот, а смута интегрирует внутреннее и внешнее под эгидой всеобщего. В турбулентной среде актуализируются разночтения перспектив, усиливается эволюционная конкуренция и культивируется воинственный этос.
Техническая цивилизация обладает могучей мускулатурой, распорядиться которой можно по-разному. Сообщества, обитающие на планете, реализуют различные цивилизационные коды, вопрос в том, какой окажется доминирующим. В человеческой вселенной присутствуют стратегии личного успеха (“викария из Брея”), корпоративные (“красной королевы”), социокультурные (“полифонического резонанса”), ценностные (“стратегия черепахи”) и чаще всего – их изменчивые сочетания. Данный список, однако, не является исчерпывающим. Не исключен выбор – личностями, сообществами или государствами – подспудной либо явной версии культуры смерти, суммы практик деконструкции цивилизации и самоуничтожения: “К чему этот мир, если в нем не будет меня?”
ДЕЛЬТА ИСТОРИИ
История переживает кризис, ее линейное прочтение, геополитическое и генеалогическое летописание – свойство определенной ментальности. Глобализация мира – финал земной экспансии цивилизации. Universum Humanum, завершив колонизацию планеты, интенсифицирует операции с версиями будущего, осваивая уходящие в бесконечность зыбкие земли.
Осмысление футур-истории – это не только прогнозирование вероятных сценариев и конструирование несуществующих ситуаций с опорой на профессиональную интуицию и обоснованные предположения. Знание о будущем не исчерпывается суммой опознаваемых фактов, являясь искусством пропорций: процессом постижения все более сложных прописей и траекторий реальности, осознания ее глубинной природы и нелинейной логики. Развитие, включая “великие потрясения”, “вызовы и ответы”, бифуркации и фазовые переходы, естественное состояние человека и маршрутов общества. Фокусировка грядущего мозаична: половодье антропотоков размывает постисторическое русло; мейнстрим эпохи, вбирая воды и коды синкретичного бытия, разливается по планете, взламывая социальные перегородки и устраняя ментальные препоны. Поток событий, разделяясь на противотоки, протоки, заводи, дробится, образуя устье совокупного вселенского транзита.
Глобализация Ойкумены, точнее, ее вторая волна – это горизонтальное совмещение культур при удержании их диахронной неоднородности. Или, иначе говоря, гибридный мир, который вне прежней унифицирующей модели “плавильного котла”, миссионерского и колонизационного пыла, чреват десинхронизацией общей истории, генезисом комплексной культурной среды, своего рода дополненной реальности (мультиуниверсума), чье емкое содержание может быть, однако, уплощено, люмпенизировано и карнавализировано.
Постсовременное междуречье интегрирует и сочетает, “гибридизирует” также то, что ранее было функционально и категориально разделено: экономика, политика, культура, война и мир, прочие групповые взаимодействия сливаются в пестрый континуум, трангрессирующий и национальную государственность. Генезис новизны сопряжен с нарастающей дефектностью привычных протоколов, установление же иных стандартов, как правило, отстает от перемен. Экспериментируя с траченными временем картами и оперируя пройденными маршрутами, мы оказываемся в плену двусмысленностей и метафор, память о былом затрудняет понимание сути метаморфоз.
Реконструкция социокосмоса сопряжена с переосмыслением ценностей и ослаблением норм, включая намеренные ошибки. Кризис перехода (rite of passage) стимулирует творческие процессы, умножает и активирует связи, производя универсальный “эффект бабочки”. Происходит перенастройка практики, переоценка активов, обновление реестра производств и повестки интеллектуальных корпораций, расширяется спектр продукции и растет объем знаний.
Краткий перечень возникающих обстоятельств, реалий и сопутствующих проблем включает:
- глобальную трансформацию современного мироустройства, универсальное политическое пробуждение, кризис мирового консенсуса, социальную транспарентность, культурную и контркультурную ревизию, постсекулярную интерпретацию реальности;
- эколого-климатический переход, демографический вызов, эпидемиологические проблемы, глобальную вакцинацию, резистентность микрофлоры, генную инженерию и мутагенез;
- кризис природозатратной экономики, пертурбации углеводородной энергетики, взрывной рост нематериальных активов, мультипликацию эмиссионных и производных инструментов, экспансию финтеха и общую финансовую критичность;
- технологическую и дигитальную революцию, трансфизический универсум, глобальные цифровые платформы, нейросети, искусственный интеллект, роботизацию, киборгизацию, горизонты дополненной реальности, симуляцию, виртуальную социальность, доминирование представлений над событиями, постправду, даркнет, коммуникационный переворот;
- тенденции наступательного реализма США, перспективы реорганизации/ диссоциации Европейского союза, кризис международной бюрократии и ловушку национальных крепостей, институциональную и статусную инволюцию России, неопределенности постсоветского пространства, признаки экономического и призраки политического поворота в Китае, генезис нового поколения развития в третьем мире, вероятность латиноамериканской реконструкции;
- возможность обширной дестабилизации мирового Юга, его политическую сегментацию и трофейную экономику (Глубокий Юг, Undernet), глобализацию и радикализацию ислама вкупе с обострением шиито-суннитских противоречий, транзит людей Юга на Север, сложности миграционного регулирования, культурный геноцид, опасения относительно “синдрома Франкенштейна”;
- возрастание общей неопределенности, социальное расслоение, криминальные политии, неотрайбализм, экстремизм, спонтанный и системно организуемый терроризм, производство напряжений в сфере военной безопасности (сирийская, иранская, северокорейская, российско-украинская проблематика), гибридные войны, перспектива глобальной конфликтности.
Оболочка современного мироустройства – “яблочная кожура над раскаленным хаосом” [Ницше 1990: 736], которая, однако же, удерживает актуальный нравственный кодекс и режим мирного сосуществования, амортизируя всплески напряженности, вспышки агрессии и тектонику многослойного конфликта. Между тем в числе “больших вызовов” цивилизации [“Большие вызовы…” 2016: 6] – возможность истощения мира: перенастройка принципов сосуществования и перерождение спорадического воинского жертвоприношения в некую подспудную, но хроническую реальность. Идея гибридного мира как изнанки глобальной революции [King, Schneider 1993] предвещает не конец истории как таковой [Fukuyama 1992], но иную ее интерпретацию: расщепление универсального вектора [Неклесса 2018: 88] и сосуществование автономных ценностных траекторий, конкурирующих между собой (см. рис.). Иначе говоря, нынешний кризис истории чреват масштабной смутой и борьбой за доминантный образ будущего, предвещая цивилизации непростые времена.
КРИЗИС БУДУЩЕГО И ВОССТАНИЕ ЭЛИТ
История предъявила сегодня цивилизации также два не вполне очевидных вызова: универсальное, разноплановое делегирование суверенитетов – иной порядок организации власти, и разделение с гаджетами прав на анализ ситуаций и принятие решений.
Активное представление будущего предполагает борьбу за доминирование в процессе выбора, редактирования и утверждения предпочтительной версии цивилизации. Это серьезное испытание прочности современной институциональной архитектуры, модели, “основанной на свободе человека и разнообразии мнений и творчества” (1), ее актуальных и потенциальных возможностей. Системы различной степени сложности изъясняются на разных языках и подчиняются несовпадающим законам: политическая, экономическая, военная теория и практика индустриального толка в настоящее время активно корректируются. Для компенсации возникающих парадоксов – симптомов иной реальности – используются мировые регулирующие органы и аутсорсинговые протезы, а на роль кризисного менеджера рассматривается высокоорганизованный субъект, чьи способности мультиплицируются за счет возможностей искусственного интеллекта.

Глобализацию сопровождает индивидуация, история насыщается антропологией и персонализируется. Необходимость умело ориентироваться и результативно действовать в конденсированной среде распределенных по городам и весям анклавах нового мира предъявляет запрос на индивида, обладающего развитым интеллектом, культурным капиталом, владеющего разнообразными, подчас уникальными искусствами. На планете разворачивается своего рода бунт самодеятельной личности против власти традиций и тирании стереотипов – мы наблюдаем диалектические молекулы “креаторов-управленцев” – эволюционное сообщество, создающее новую реальность, обустраивая свое видение будущего (2).
Комплексный мир, востребовав сложный интеллект, инициировал поиск путей его обретения. На рубеже нынешнего века восстание элит [Lasch 1994] сменяет былую революцию масс [Ortega y Gasset 2000: 43-163]. Сегодня идею демократии, свободы и равенства замещает ориентация на персональный суверенитет.
Стратегическое преимущество переходит к системам, способным к глобальной диссипации и эффективному функционированию в ситуациях неопределенности, цифровым и комплексным механизмам.
Геополитика, руководствующаяся милитарно-территориальными категориями, усложняется и замещается деятельной партитурой – геоэкономикой (соответственно меняются и средства принудительного воздействия), а в дисперсной среде с эластичной архитектурой доминирует социокультурная аттракция (геокультура), растет значение антропологического фактора, ускоряется перераспределение человеческих ресурсов (геоантропология).
Будущее творится как синергия частных усилий. В социальном космосе мы имеем дело не с объектами и фактами, а с процессами и ситуациями, глобальное взаимодействие идет на смену национальной суверенности, ее политическому доминированию.
Как результат, происходит умножение сетевых предприятий, возводимых поверх прежних барьеров, представители стран, этосов, этносов дистанционно и совместно трудятся в рассредоточенных по планете предприятиях, венчурных, исследовательских и университетских центрах. Складываются деятельные трансграничные сообщества, конструктивные и деструктивные, реализуя избранные по тем или иным мотивам маршруты перемен.
Пришествие постиндустриального класса предложило собственную модель миростроительства: делигитимацию авторитарно-патерналистских и бюрократизированных форм власти, ослабляющих личностное начало, культуру гибкой борьбы за реализацию идеалов и прав, снижение уровня рестрикций, ревизию стандартов индивидуального поведения и общественной практики.
Проактивная личность, частные и партнерские коммуникации (включая персонализированный антиэлитарный популизм) используют особенности динамичной среды – социальную и правовую креативность, технологическую и культурную новизну, экономическую комбинаторику, демонстрируя способность к продуктивной деятельности в условиях перманентного транзита.
Амбициозные коалиции, пользуясь обширным эффективным инструментарием эпохи, смещают акценты субъектности с обезличенных учреждений на мобильные сообщества (softstate, liquid state, wise state, post-state), обеспечивая переход от административных механизмов контроля к личностно-групповому (молекулярному) управлению событиями.
Императив венчурности решений и скорости их принятия сопряжен с неизбежностью издержек и слабыми возможностями контроля возникающих девиаций. Целеполагание дисперсных организмов, рассеянных по планете, консолидируемых теми или иными аттракторами, может серьезно диссонировать с регламентами современности.
Расширяя спектр актуальной геокультурной семантики, ценностные и поведенческие матрицы способны входить в конфликт с наличными этическими установками, актуализировать постсекулярные тенденции дополненной интерпретации реальности, носить сверхценный характер, порождая в русле драматичного эволюционного процесса политические коллизии, экономические, культурные и конфессиональные водовороты.
Переворот в образе жизни ремодифицирует институты практики, влияя на действенность международного права, режим безопасности, статус войны и мира. Поиск сложной гармонии – турбулентный процесс, это предприятие с высоким уровнем риска и сопутствующих напряжений.
О возможном состоянии индивидов и сообществ вне привычной формы политической организации (государственности) размышлял в свое время Томас Гоббс, делая не слишком оптимистичные (“алармистские”) предположения: “Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех. Ибо война есть не только сражение или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Подобно тому как понятие сырой погоды заключается не в одном или двух дождях, а в ожидании в течение многих дней подряд, точно так же и понятие войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном” [Гоббс 1991: 95-96] (3)
Туман перманентной войны – симптом хаотизации организации, т.е. процесса, который предваряет кристаллизацию и утверждение новых смыслов, но может также предвещать крах системы либо ее глубокую архаизацию.
УСЛОЖНЕНИЕ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Проблематика войны и мира в новом веке привлекает все более пристальное внимание. Мифы и сказки обычно кодируют странствующие архетипы обобщающими символами наподобие “биполярной мировой войны птиц и зверей”. Нынешняя борьба за будущее расширяет список участников, включая в него, образно говоря, земноводных тварей, рои насекомых и прочих, подчас сложно определимых персонажей, а также композиции с новоявленным Големом – искусственным интеллектом.
В институтах практики происходит смешение военного и гражданского этоса, однако это скорее хроники гибридного мира, нежели огненные сумерки вселенской бойни. Повседневность не отходит на второй план, но изменяет привычные очертания.
Военный магистрат в идеальном статусе – прозорливые новаторы в теории и императоры в практике. Они менее других подвержены иллюзиям и шаблонам из-за специфики деятельности: ее эвристичного характера, явных, скорых и непростых следствий принимаемых решений, категорического реализма при учете предполагаемых результатов и возникающих обстоятельств.
Многофакторность, подвижность, изменчивость среды, совокупно создаваемой конкуренцией несоразмерных персонажей, затрудняет применение универсальных моделей. В том числе из-за проблем с опознанием суммы причинно-следственных связей и расчетом ветвящихся траекторий.
Вместо единой картины мира множественными мазками прописывается импрессионистичный пейзаж, в котором социальный гештальт размывается потоками протееобразного бытия. В многомерном и ускоряющемся калейдоскопе способы ведения войны быстро модифицируются, порой самым драматичным образом (4). Война – это “подлинный хамелеон, в каждом конкретном случае несколько меняющий свою природу” [Клаузевиц 2007].
В ХХ в. перемены в характере военных действий были стремительны и многоплановы, а появление ядерного оружия породило новый вид силового конфликта – холодную войну.
Каноны военной теории и практики активно переосмыслялись и перерабатывались, причем не только в рамках мировых войн или биполярного противостояния, но также в ходе постколониальных конфронтаций, борьбы с сепаратизмом, гуманитарных и крипто-интервенций, акций по поддержанию мира, войн с терроризмом, в иных турбулентных ситуациях, в том числе с резким дисбалансом сил. Международные и внутренние вооруженные конфликты последнего времени развернулись преимущественно в афразийской зоне нестабильности, но не только: сирийская чересполосица, подвижное и диверсифицированное по планете “Исламское государство”, воюющий Йемен, расколотая Ливия, боевые столкновения в ряде других африканских стран (ДР Конго, Нигерия, Мали, ЦАР, Сомали, Южный Судан – Дарфур и др.), Ираке, Афганистане, а также на Донбассе (5).

Новый век внес в военную проблематику существенные коррективы. Меняется ее понимание как индустрии деструкции, корректируются представления о национальной безопасности, границе между фронтом и тылом, войной и миром.
“Победа реализуется на стратегическом уровне, и для ее достижения недостаточно одной лишь боевой силы. Комплексность определяется не просто как неизвестная среда, но как среда, слабо поддающаяся анализу и постоянно меняющаяся. Армия не может наверняка спрогнозировать, с кем ей придется иметь дело, где придется вести бои и с какой именно коалицией случится воевать” (6).
Общий диагноз ситуации примерно таков: постсовременные угрозы полифоничны, союзы непостоянны, войны юридически нечетки, ситуационно дискретны, их субъектность порой серьезно нарушена, они могут обрести корпоративный и даже частный характер, решать задачи не вполне военного свойства.
Управление событиями в подобной неопределенной среде требует пересмотра самой сути мрачного искусства с последующей ревизией генеральной структуры принятия решений. Политическая, технолого-экономическая и социокультурная разнородность противников проявляет себя также в асимметрии применяемых средств и методов.
Соперники и конкуренты в мозаичном мире располагают несовпадающими наборами инструментов: доминантно-боевыми и доминантно-гражданскими. Это конвенциональные вооружения и оружие массового поражения (ОМП), разнообразные ЧВК, кинетические и некинетические операции, террористические и диверсионные технологии, партизанские тактики, паравоенные и невоенные средства господства, акции в киберпространстве, информационно-психологическое воздействие и т.д.
Причем обретение самостоятельными игроками и террористами прорывных изобретений в области высокотехнологичных вооружений, равно как модификаций ОМП либо аналогичных по силе средств (“инструментальная диффузия”), может существенно повлиять на институт регулярной армии ординарных государств и характеристики силового противостояния в целом.
При проектировании и производстве вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) сегодня используются цифровые и аддитивные технологии, достижения нано- и микроэлектроники, радиофотоники, биотехнологий. Ведется также разработка новых материалов, очередного поколения высокоточных и гиперзвуковых систем, оружия “на иных физических принципах”.
Сложный мир вносит в военный инструментарий и нечто особенное: летальные автономные робототехники (LARS – lethal autonomous robotics), управляемые искусственным интеллектом. Данная проблема шире компетенции военных или политиков, она параллельно инициирует поиск ответов на ряд философских вопросов.
Искусственный интеллект (ИИ) и когнитивные операциональные системы сами по себе образуют ядро разработок универсальных средств господства, но LARS – своего рода кощеева игла технического прогресса. Подобно стрелке компаса она указывает генеральное направление перемен: автономизацию и субъективацию отделяющихся от человека протезов и программ.
Промежуточная стадия – дистанционно управляемые беспилотные разведывательные и летальные аппараты: modus operandi, разделяющий, но и парадоксальным образом соединяющий поле боя с глубоким тылом, ритмами повседневности и “огнями большого города”. Быстрое, многофакторное оружие соответствует природе сложных динамических систем, требующих недоступных человеческому уму широты охвата данных и быстродействия. Новоявленный Вий – сообщество программ, владеющих искусством апофении, различает неясные и многозначные паттерны, сводимые нейронными сетями в динамичный агрегатор с проблесками эвристики. Этот неантропоморфный субъект обладает своеобразным “дигитальным мышлением”, которое коммуницирует с людьми, но руководствуется собственным языкознанием – математикой (умозрительной дисциплиной, не относящейся к сфере естественных наук) (7).
Тест Тьюринга на схожесть искусственного интеллекта с человеческим оказывается все менее актуален для востребованных временем функций и сомнителен как всякое искусство лицедейства. ИИ по своей сущности – инопланетянин, абориген виртуальных миров, это иной тип разума с недоступной человеческому сознанию широтой охвата данных и ускоряющимся быстродействием, однако лишенный органичных свойств людской натуры – эмоций, характера, нравственности. Иначе говоря, это ум иной природы, не застрахованный от грубых и губительных ошибок с точки зрения природы человека и его здравого смысла.
Задача управления стаями, роями, изменчивыми композициями многочисленных и разнородных средств актуализирует тему автономного искусственного интеллекта, а дискуссии, которые ведутся – это споры по поводу опасений, связанных именно с летальностью таких систем, но не с развитием автономной робототехники (ARS – autonomous robotics) как таковой. Автономные разведывательные и другие нелетальные функции реализуются в системах мониторинга, разведки и обороны, не вызывая протестов, в гражданской же сфере давно действуют информационные и финансовые боты, в определенных ситуациях также переходящие на автономный режим. Проходят испытания автопилотируемого транспорта, сеть заполняют интерактивные бот-сообщества и т.д.
Транзит гражданских автономных робототехник в боевые и летальные, в общем-то, предопределен. Так или иначе, легально или нелегально они обречены преображаться в летальные в силу логики развития, роковых обстоятельств либо злой воли. Проблемой же является управление новыми рисками, равно как нравственная позиция по отношению к этим и другим открывающимся возможностям, число которых неуклонно растет. Расширение пространства операций, трансформация инструментов, институтов и практик стимулирует не только существенное обновление совокупного военного арсенала, включая соответствующую реорганизацию управления, но предполагает транзит параметров национальной обороны, пересмотр методологии силового действия и осмысление его моральных границ.
“ПАГУБНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО” (8)
Суть войны – разрушительное усилие, это радикальный аспект борьбы, решительно опровергающей статус-кво, особая технология перемен, сумма враждебных действий посредством специфических технологий, институт нападения и обороны, агрессии и защиты. Но она же таит в себе злой парадокс: развивая инженерные технологии и совершенствуя ментальные искусства, война понуждает преодолевать инерцию повседневности, становясь, фактически, стимулом интеллектуального и технического прогресса.
Другими словами, обретает, по крайней мере отчасти, привкус созидательной власти. Прибегая к силам и средствам зла, пусть иной раз и вынужденно, воинское искусство все же исторически числится почетным родом деятельности, инструментом борьбы со злом либо с тем, что представляется таковым. Мистерия воина – преодоление потерь и пределов: боевые шрамы на теле, штабные – в душе; под натиском зла война предлагает дьявольские альтернативы, высвечивая ценности и обновляя смыслы.
Возникает вопрос, что же это: хирургическая неизбежность как следствие человеческого несовершенства, легитимация природного зла или поскрипывающая (проскрипционная) ступень эволюции?
Будучи предельной и одновременно развивающейся формой практики, опознавая свою мощь и раздвигая рубежи деструкции, война при всех метаморфозах не может существовать в моральном вакууме и не должна оказаться вне правового регулирования. Но тут возникает ранее не вполне очевидная проблема: что именно следует считать войной?
В сложном, комплексном мире ее границы и критерии становятся весьма зыбкими (вспомним сентенцию Гоббса про “сырую погоду”). Сегодня военная деятельность существенно корректирует свой формат. “В наше время неприменима прежняя классификация войн: мировая, региональная, локальная и вооруженный конфликт. Война теперь другая, для уничтожения противника широко используются непрямые действия, информационное противоборство, участие наряду с регулярными также нерегулярных вооруженных формирований” [Месснер 2005].

Задачи решаются и цели достигаются подчас с помощью прокси-коалиций и структур невнятного генезиса, конъюнктурно объединяя и перенаправляя несовпадающие интересы персонажей с подвижной лояльностью. В зависимости от технологического статуса у каждой из противоборствующих сторон своя дорожная карта действий, по мере возможности компенсирующая наличествующие изъяны. Элементы военной конфронтации проникают в повседневность, обживаются и обустраиваются там. Вне прямого, фронтального столкновения наций контактные действия отходят на периферию сюжета, становясь привилегией наемников или вооруженных группировок клиентов и партнеров, причем ряд функций и отдельных задач могут прямо передаваться контрагентам на аутсорсинг. Национальные вооруженные силы оказываются скорее парящими над схваткой крепостями – инструментом финальной угрозы.
При проведении же текущих комплементарных и локальных операций планирование строится большей частью на комбинациях с использованием общих мониторинговых систем, логистических платформ и экстерриториальных комплексов: диверсифицированных разведывательных структур, полифункциональных стай дронов, распределенного множества оперативных центров и групп специальных операций. К тому же ряд функций по поддержанию режима национальной безопасности переходит от военных структур к умножающимся спецслужбам и наоборот, интегрируя внутреннее и внешнее в общем контексте взаимодействий. А гибкое применение технологий двойного назначения и гражданских механизмов позволяет достигать цели иными способами, нежели использование силы посредством регулярных войск и стандартных вооружений.
Оппоненты, как в ходе боевых операций, так и задолго до и вне военных коллизий, могут изнуряться активными мероприятиями, акциями по точечному устранению препон и т.п. Сценарии воздействия на врага используют, помимо традиционных методов, возможности виртуальной дезинформации, искаженной и дополненной реальности, вирусное распространение фальшивых новостей с целью спонтанной, массовой деморализации, внесения в оценку ситуации стратегической растерянности и захвата инициативы.
Моделируя стратегию комплексного действия с акцентом на будущее, можно целенаправленно повышать градус неопределенности, смещать субъектность, дезориентировать и атаковать противника, так что о проведении операции, реализуемой стратегии, а порой и о смысле коллизий он узнает, образно говоря, “только на следующий день”.
В русле подобных метаморфоз растет значение не только высокотехнологичных активов, но также креативных кадров, административных новаций, неординарных методов получения информации, прочих оригинальных концептов и умений. Провоцируя, в свою очередь, технические инициативы и социальные интервенции.
“Войнам Шредингера” в возрастающей степени требуются нематериальные активы: интеллектуальный, человеческий, культурный капитал, организационный апгрейд, искусство комплексного управления разнородными и многоплановыми средствами. Глобальная трансформация предполагает глубокое преобразование форматов “конструктивной деструкции” и процессов штабной рефлексии: сложной войне так же, как сложному обществу, нужен сложный субъект, способный к многофакторному анализу, оперативно претворяемому в результат.
Сумма возникающих обстоятельств, видовая и пространственная рассредоточенность угроз, диффузия силовых и ментальных схваток – предчувствие иного миропорядка, “характеризуемого неопределенностью и неожиданностями”.
Перемены предполагают концентрацию “на угрозах, исходящих от децентрализованных сетей, не являющихся государствами” и “ведение войн в странах, с которыми мы не находимся в состоянии войны” (9).
Все это, подрывая власть профессиональных традиций и формальных протоколов, усложняет диалектику действия, питая мрачную интеллектуальную конкуренцию и снижая моральные рестрикции. Инвариантом остается человеческая “гибель всерьез”.
Отношение к экспансии эффективной паравоенной практики между тем неоднозначно, будучи сопряжено с опасениями “эффекта бумеранга”: перетекания методов диверсионной, информационной, психологической войны в гражданскую сферу.
Применение же особо изощренных форм и формул конфронтации прямо подвергается критике, так как само по себе способно понижать уровень толерантности и повышать уровень рисков, приближая мир к цивилизационному и моральному кризису.
Современные нормы военного и гуманитарного права, обычаи войны и традиционные представления о воинской чести вполне допускают военную хитрость, а по умолчанию – особые меры в чрезвычайных обстоятельствах (здравый смысл при этом играет не последнюю роль), предполагая ограничения гуманитарного свойства (ср. “преступления против духа человечности и цивилизации”). Иначе говоря, в контексте современной цивилизации подразумевается наличие неких базисных этических рамок и пределов силового противостояния аналогично запрету на определенные виды летального оружия. Соответственно и методы, серьезно противоречащие этическим принципам современности, но оправдываемые экстремальностью возникающих ситуаций, характеризуются порой как фундаментально деструктивные (с использованием таких ярких эпитетов, как paradaemonic, т.е. “парадемонические”).
Дефицит нравственных препон при планировании деструктивных акций с масштабными следствиями может трактоваться не только как проявление пагубного отчуждения, но и как признак иного мировидения, религиозного или идеологического фанатизма. По мнению критиков, подобные флуктуации духа чреваты стратегическим ущербом, облегчая, в частности, применение “оружия Судного дня” (10).
Однако ядерный апокалипсис – не единственный вариант гибельного исхода истории, моральное поражение цивилизации может быть горнилом разных версий расчеловечивания.
ГИБРИДНЫЙ МИР
Цивилизация и культура обуздывают возможные эксцессы системой правовых ограничений и культурных запретов. Война – их драматичное опровержение, антипод цивилизации и антитеза культуры, один из “двух чудовищных мародеров” (11).
Вместе с тем война – моральная коллизия: процедура насилия, имеющая целью изменить нежелательные по тем или иным причинам обстоятельства посредством экстраординарных мер, включая легализацию убийств и разрушений. Это также питаемая человеческими жертвами привилегия обороны, подчас – попытка выбраться из стратегического тупика, следствие разлада земной перспективы, сбоя ее метафизической фокусировки.
Угнетая нравственное чувство и обнажая людское дно, война вскрывает трагизм бытия и демонстрирует травматизм жизни.
Субстанция будущего неопределенна и двусмысленна. Социальный космос – проекция и акселерация противоречивых свойств человеческой натуры, мыслей, действий, вожделений, нравственных устоев. Состязание в сфере экзистенции онтологично, политика же – антропологична, ее мобилизующие усилия сопряжены с желанием достичь определенной конфигурации порядка.
Соотношение между онтологией и феноменологией нестабильно и конъюнктурно, реализация идеалов в сущности скорее вектор продвижения, партитура истории, нежели полнота результата: тень норовит покинуть отводимое цивилизацией место.
Природа морального выбора, в отличие от рационального, чужда конъюнктуре, практика же то и дело спотыкается о дьявольские альтернативы, но текущие угрозы тут лишь видимая часть проблемы (ср. capabilities-based strategy).
Умозрительные построения, являясь гипотезами, отражающими ментальность времени, чреваты ошибками, которые порой осознаются лишь впоследствии, при перемене участи, а нелинейная природа сложности, обремененная возможностью “маловероятных высокоэффективных событий” (Ричард Чейни) и отравленная постправдой, воспринимается скорее мистифицированным образом или как хаос? или не воспринимается вообще.
Гибридный мир – своего рода трагическая мениппея, историческая неизбежность, обусловленная перерастанием этикой и логикой современности собственных пределов.
В релятивистском социуме с высоким уровнем возможностей и угроз “нечестивый синтез” военных и гражданских искусств рискует стать аморальной и деморализующей нормой, но тем актуальнее оказывается наследие ХХ в. – универсальная объективация (формализация и фиксация) этических стандартов и развитие международных правоприменительных процедур (pacta sunt servanta).
Сбой же в доверии к контрактам безопасности способен привести к тектонике и рекуррентности мирового порядка, его обратной регионализации и национализации. А также к банкротству сложившихся международных институтов и организаций. Полнота устремлений цивилизации, обретая развитую интеллектуальную и техническую мускулатуру, но лишившись “генеральной стратегической концепции” (12), разбивается на ряд конфликтующих замыслов, интриг и трактовок, а ядерное оружие из закрывающей войну технологии превращается в зонтик для нелегитимных акций, нелегальных операций, иррегулярных инициатив и других коррумпирующих мир действий, препятствуя их пресечению.
Вирулентный релятивизм гибридного мира, свободно оперируя боевыми и небоевыми средствами насилия как “подлинными орудиями политики” [Клаузевиц 2007], прививает исключительное к повседневному, подрывая властный консенсус современности и ее моральный императив (13).
Кажется, в подобных обстоятельствах призрак вялотекущей, но перманентной войны имеет шанс возобладать над мечтой Канта о “вечном мире” и апокалипсисом Исайи.
Другая проблема, наряду с цивилизационной коррупцией и новыми моделями поведения осложняющая ситуацию, – диверсификация фактических суверенов: процесс, напоминающий генезис разноформатных национальных государств при распаде континентальных и морских империй в прошлом веке [Неклесса 2015].
Характерные черты новой композиции – ее неопределенность и динамизм. Борьба ведется порой не с легитимными политическими субъектами, а с их протееобразными симулякрами, вассалами и клонами – проекциями и прокси-композициями из фрактальных персонажей: полиморфными гигантами, пигмеями, тенями, причем одновременно.
И если видимая брань наносит открытые раны, то невидимая культивирует метастазы, добиваясь перерождения среды. Гротескная форма постулата Клаузевица в подобном морально уязвленном и субъектно распредмеченном мире могла бы, наверное, звучать так: “политика – не только искусство возможного либо геостратегический акт, но и продолжение эволюционной устремленности антропо-социальных персонажей, битва за будущее, реализуемая все более многообразными средствами” (14).
Будущее – коллективное предприятие с неравномерным распределением капитала, всерьез же за власть над эволюцией конкурируют цели и ценности, “знаки и символы”.
Уинстону Черчиллю, испытавшему балансирование на грани национальной катастрофы, но сумевшему выиграть казавшуюся подчас безнадежной битву за Британию, приписывается кредо стойкости в мрачных обстоятельствах: “Успех – не финален, неудача – не фатальна, значение имеет лишь мужество продолжать”.
Отсылки по тексту:
1) Macron E. Renewing Europe – Project Syndicate. 04.03.2019. URL: https://www.project-syndicate.org/ commentary/three-goals-to-guide-european-union-renewal-by-emmanuel-macron-2019-03
2) Контур иной, не территориально-пространственной картографии человеческой Вселенной прослеживается в распределенных множествах идеологических и конфессиональных сообществ, чье мировидение отражено в сентенции: “Для нас всякая чужбина – отечество и всякое отечество – чужбина” (предположительно Иустин Мученик. Письма к Диогету, II в.). Или в персоналистичной философии “кембриджских апостолов”: “Если надо выбирать между предательством по отношению к моей стране и предательством к моему другу, то надеюсь, что у меня хватит смелости предать свою страну” (Форстер Э.М. Во что я верю). Речь, однако, идет не столько о религиозной, идеологической или социокультурной идентичности и стратификации (“домены симпатий”), сколько об универсальном политическом агрегаторе, интегрирующем конфессиональное противостояние мирским обобщениям и личностно-мотивированный отказ от императива национально-территориальной идентификации, утверждая приоритет внутренних обстоятельств над внешними и формируя доминанту иного мироустройства.
3) Привкус толики алармизма сейчас вполне ощутим, о чем свидетельствуют, к примеру, часы Судного дня на обложке Bulletin of the Atomic Scientists Чикагского университета (ср. нынешние 2 минуты до полуночи с 17 минутами в 1991 г.) или говорящая обложка новогоднего выпуска влиятельного еженедельника The Economist с присутствующими на ней всадниками Апокалипсиса (идеографический прогноз о предполагаемых проблемах и событиях 2019 г.). Ср. также с мемом “экзистенциальная угроза”, появившемся в текстах и выступлениях влиятельных американских генералов Филиппа Бридлава, Джеймса Мэттиса, Джозефа Данфорда, Марка Милли и др. [Breedlove 2016].
4) “Война издревле удары оружием по телу врага подкрепляла ударами по его психике. В таких полувойнах воюют партизанами, ‘добровольцами’, подпольщиками, террористами, диверсантами, массовыми вредителями, саботажниками, пропагандистами в стане врага и радиопропагандистами <…> В прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет почитаться завоевание душ во враждующем государстве. В минувшую войну линия фронта, разделяющая врагов, была расплывчатой там, где партизаны в тылах той или иной стороны стирали ее. В будущей войне воевать будут не на линии, а на всей поверхности территорий обоих противников, потому что позади окружного фронта возникнут фронты политический, социальный, экономический; воевать будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как было с момента нарождения военной авиации, а в четырехмерном, где психика воюющих народов является четвертым измерением” [Месснер 2005].
5) Авторы аналитического ежегодника Conflict Barometer Гейдельбергского института исследований международных конфликтов (HIIK) квалифицировали в 2018 г. как “войны” 16 конфликтов на планете, это на четыре меньше, чем годом ранее. В то же время число “ограниченных войн” выросло с 16 до 24. Почти все войны идут на Ближнем Востоке и в Африке. Всего же в мире, по подсчетам специалистов HIIK, имели место 213 конфликтов с применением насилия между государствами, этническими, религиозными или политическими группами. См. Conflict Barometer 2018. 2019. Heidelberg Institute for International Conflict Research. P. 13-15, 22-23, 55-97. URL: https://hiik.de/konfliktbarometer/aktuelleausgabe/
6) Perkins D. 2014. Preface. – The U.S. Army Operating Concept: Win in a Complex World. 2020-2040. P. iii. URL: https://info.publicintelligence.net/USArmy-WinComplexWorld.pdf
7) На ум приходит спор многострадального Иова с Творцом, в сущности, о пределах действенности https://www.project-syndicate.org умозрительных постулатов. А заодно диспуты в Парижском университете (XIII в.), поставившие под сомнение и осудившие Аристотелев критерий истины – логическую непротиворечивость. Предложив взамен иной: проверку истинности утверждений (помимо “Книги Откровения” – завета принципов бытия и общежития) “Книгой Природы”, трангрессирующей человеческую логику, будучи сотворенной нечеловеческим разумом. Иначе говоря, постулировав основание новоевропейской науки: непредвзятость вердикта, свободного от игр логики – эксперимент.
8) “Германия, потерпев поражение в войне, сумела осознать скрытые пороки миропорядка XIX в. и использовать это знание для того, чтобы ускорить его крах. Ее политики, сосредоточившие в 30-х гг. все свои помыслы на этой задаче разрушения – задаче, которая нередко требовала создания новых методов и форм торговой и финансовой деятельности, войны и социальной организации, – в своих попытках подчинить ход событий собственным целям приобрели некое пагубное интеллектуальное превосходство…” [Поланьи 2002].
9) Quadrennial Defense Review Report. US Department of Defense. 2006. February 6. URL: http://archive. defense.gov/pubs/pdfs/QDR20060203.pdf
10) Вспомним, например, рассуждения о предполагаемой связи Махмуда Ахмадинежада с апокалиптическим исламом [Khalaji 2008: vii-ix]. Или ряд других схожих по духу гностических или идеократичных ситуаций, прямо либо косвенно связанных с темой “ядерного апокалипсиса” (“Мы попадем в рай, а они просто сдохнут”). Концепты приближения конца истории посредством ядерного апокалипсиса, “упреждающей нейтрализации угроз” с применением ядерного оружия или прямого “глобального удара”, равно как идеи “повышенной выживаемости” той или иной группы населения, народа или расы как их “стратегического преимущества”, отражают движение мысли от позитивного целеполагания к представлениям о лидерстве в деструкции, понижая планку политического авантюризма (“опрокидывание столов вместо пересдачи карт”). Критическая глобальная ситуация в XXI в. Может также реализоваться в результате эколого-климатического катаклизма, универсальной адаптации микроорганизмов к действию антибиотиков, падения на Землю крупного небесного тела. Результатом подобных событий либо их комбинации стали бы демографический переход и деградация цивилизации).
11) – “Чтобы миллионы и миллионы людей, живущих в домах, действительно чувствовали себя в безопасности, они должны быть защищены от двух чудовищных мародеров — войны и тирании”. См. Churchill W. 1946. The Sinews of Peace. March 5. URL: https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/
12) “В чем же заключается наша генеральная стратегическая концепция, которую нам с вами нужно принять сегодня? Не в чем ином, как в обеспечении безопасности и благоденствия, свободы и процветания всех мужчин и всех женщин во всех домах и во всех семьях на всей земле. Но прежде всего я имею в виду бесчисленное множество домов, как частных, так и многоквартирных, обитатели которых, зарабатывая на жизнь наемным трудом, умудряются, несмотря на все превратности и трудности жизни, ограждать своих домочадцев от невзгод и лишений и воспитывать своих детей в духе почитания Бога, то есть в соответствии с теми высокими нравственными принципами, которые играют столь важную роль в жизни человека”. См. Churchill W. 1946. The Sinews of Peace. March 5. URL: https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-elder-statesman/the-sinews-of-peace/).
13) “Война – не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами” [Клаузевиц 2007].).
14) Терзания германских военных авторитетов о соотношения политики и войны обобщил в свое время Вадим Цымбурский: “Клаузевиц превозносит ‘грандиозную и мощную’ политику, которая порождала бы такую же войну. Для Мольтке-старшего политика чаще всего связывает и стесняет стратегию <…> И, наконец, как бы на противоположном от Клаузевица конце шкалы предстает Э. Людендорф с мнением о политике как о продолжении тотальной войны, ее инструменте” [Цымбурский 2006].).
Автор: НЕКЛЕССА Александр Иванович, руководитель Группы “Север – Юг” Центра цивилизационных и региональных исследований, Институт Африки РАН
Источник: Опубликовано в журнале “Полис. Политические исследования», 2019. №4. С. 149-164.