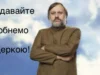Дж. Оруэлл однажды назвал себя «анархистомтори», словосочетание «антропологическая ошибка» в качестве характеристики либеральной мысли принадлежит британскому теологу Дж. Милбэнку. Сегодня эти выражения используются двумя французскими философами, Жаном-Клодом Мишеа и Аленом де Бенуа. Хотя они продвигались из двух противоположных политических лагерей, оба они определяют себя как «популисты» и «консервативные анархисты». Общим их противником является современный либерализм.
Данная статья представляет собой описание этой полемики – прежде всего с либеральной антропологией. В отличие от многих других критиков политического и экономического либерализма, Мишеа и де Бенуа полагают, что либерализм есть тотальность, а ядром для всех аспектов этой доктрины (экономика, право, политика) является видение человека либеральной философией. Такое видение имеет долгую историю – главной темой статьи является предложенная французскими мыслителями генеалогия либерализма.
Для начала следует сделать предварительное пояснение. Термины «консервативный анархизм» и «антропологическая ошибка» пришли во Францию из-за Ла-манша. Дж. Оруэлл провокационно назвал себя однажды tory anarchist – именно на него ссылаются французские авторы; можно вспомнить, что по-английски же наш соотечественник П.А. Сорокин – в прошлом эсер1 – именовал себя a very conservative anarchist.
Для обоих было характерно как резко негативное отношение и к сталинскому СССР, и к марксистской догматике, но оба они оставались «левыми», симпатизирующими «либертарному социализму», который нередко и в прошлом (да и в настоящем) был близок анархизму. Словосочетание «антропологическая ошибка» (anthropological mistake) также принадлежит английскому автору, известному теологу Дж. Милбэнку, близкому движению, которое в Великобритании называют blue socialism, – тому крылу в лейбористской партии, которое держится консервативных ценностей, сочетает защиту интересов наемного труда с почтением к традиционным воззрениям на семью, церковь, искусство и т.д.
Ошибочной Милбэнк считает не только практику почти ничем не сдерживаемого свободного рынка, которой со времен Тэтчер и Блэра придерживаются все последующие правительства Великобритании, но и лежащую в основании «либеральную антропологию», новую религию «прав человека».
Поскольку в статье речь пойдет о сегодняшних дебатах во Франции, нужно уточнить особенности ситуации последних десятилетий. Разумеется, в немалой части этот контекст – не специфически французский: мы живем в эпоху глобализации, а Франция является составной частью и ЕС, и западного мира в целом. Поэтому открытые для мигрантов границы, перенос предприятий в страны с низкой оплатой труда, уменьшение роли национального государства при возрастании влияния корпораций и финансовых рынков характерны для последних 30 лет повсеместно.
Именно эту систему сегодня именуют «либеральной» либо, с учетом того, что еще в сравнительно недавнем прошлом под «либерализмом» понималась система «социального рыночного хозяйства» в рамках национальных государств (с преобладанием кейнсианства над монетаризмом), часто употребляют для нее слово «неолиберализм», а во Франции и «ультралиберализм».
Идеологически эта система обосновывается посредством доктрины «прав человека», причем наиболее заметны в ее применении к сегодняшнему миру «борьба со всеми формами дискриминации», «защита прав меньшинств», «политическая корректность», а с определенного момента и экология, сведенная, впрочем, к озабоченности предполагаемым потеплением.
Хотя процесс глобализации поспособствовал быстрому росту экономики ряда стран прежнего «третьего мира» (прежде всего КНР), изменения социальной структуры стран Запада оказались далекими от обещанного благоденствия для всех. Неравенство настолько возросло, что произошел возврат его уровня к началу ХХ в. Как показывает детальный анализ, проведенный Т. Пиккетти [Пиккетти, 2015], период 1950‒1970-х гг., для которого было характерно уменьшение неравенства, сменился движением к финансовой олигархии и резкому падению доходов среднего класса, даже к его постепенному исчезновению.
Такое развитие еще в 1990-е гг. предвидели зоркие критики такого сорта «глобального либерализма» [Валлерстайн, 2003; Грей, 2003], причем обращали они внимание и на то, что под слова о свободах и правах демократические институты становятся все менее работоспособными. Демократия есть народовластие и характерна для политических наций эпохи модерна, тогда как олигархия с волеизъявлением признаваемого сувереном народа никак не считается.
Тех, кто противится воле этой олигархии в подконтрольных финансовому капиталу СМИ (т.е. в подавляющем большинстве телепрограмм и газет), стали именовать «популистами», имея в виду их апелляции к самым «темным» слоям населения, демагогию, «реакционность». Правда, демагогия свойственна всем политикам – кто из них не обещает «светлого будущего» в случае избрания на высшие посты, – но сегодня это слово закреплено за противниками глобализации, «евроскептиками», сторонниками Brexit и т.п. нарушителями конвенций правящего класса.
Слово «популизм» во Франции – в отличие от некоторых других стран – сравнительно недавно приобрело негативное значение. Вплоть до начала 1980-х гг. массовые партии, прежде всего голлистская RPR и компартия, считали себя именно «народными», да и были таковыми – за одних голосовали крестьяне, ремесленники, мелкие собственники, за других промышленные рабочие; одни пели «Марсельезу», другие «Интернационал», но в обоих случаях опорой были широкие массы «простых людей».
Восходящая к революции 1789 г. политическая традиция предполагала ссылку на суверена, каковым выступал народ с его «всеобщей волей». Ныне тех, кто выступает за сохранение прежней независимости Франции и утверждает, что демократия как таковая предполагает волеизъявление именно французов, а не бюрократов из Брюсселя или банкиров из Франкфурта, которых никто не выбирал, стали именовать «евроскептиками», «суверенистами» и в самом худшем случае «попули- стами», поскольку затем уже прямо следуют ярлыки «реакционера» и «фашиста».
Поэтому отнесение какого-то мыслителя в СМИ [2] к «популистам» означает во Франции несмываемое обвинение, сочетающее низкую оценку интеллекта и моральное осуждение. Во Франции много интеллектуалов, которые с негодованием смотрят на нынешнюю элиту и проводимую ею политику; критиков «неолиберализма» и сдачи суверенитета в рамках ЕС также хватает. Противников капитализма по-прежнему много среди «левых», тогда как в числе «правых» сохраняются наследники не только де Голля, но и долгой традиции сильной государственной власти.
Есть ученые, вроде демографа и социолога Э. Тодда, выступающие с резкой критикой французской элиты [3]. Наконец, какое-то влияние остается у католической церкви и отстаивающих христианские ценности мыслителей. Имеются объединения оппозиционно настроенных интеллектуалов, вроде Cercle Aristote, возглавляемого П.-И. Ружейроном, равно как и популярные блогеры, вроде М. Драка, успешно соперничающие с подконтрольными правящей элите СМИ.
Среди критически настроенных не так уж мало философов: и следующий за Хайдеггером и Левинасом, недавно избранный в члены Академии А. Финкелькрот, и самый плодовитый философ М. Онфрэ занесены в списки «новых реакционеров». Онфрэ даже близок к анархизму («либертарному социализму») и нередко ссылается на Прудона.
Однако ничего консервативного у него мы не найдем – он является непримиримым критиком не только Фрейда и Сартра (из-за этого он рассорился с «левыми»), но также всех монотеистических традиций, а его «левое ницшеанство» родственно тому, что утверждалось в сочинениях Фуко, Делёза и всей прочей French Theory [4].
К той позиции, которая была обозначена выше как «консервативный анархизм», можно отнести труды двух философов – Алена де Бенуа и Жана-Клода Мишеа. Исходя из совершенно различных философских постулатов и политических традиций, они независимо друг от друга [5] пришли к практически тождественным выводам. А. де Бенуа хорошо известен с конца 1970-х гг. как «новый правый», Ж.-К. Мишеа был коммунистом и доныне непрестанно ссылается на «Капитал». Чтобы понять схождение позиций, следует кратко остановиться на эволюции воззрений каждого из них. Ведь в исходной точке мы обнаруживаем кажущееся непреодолимым противостояние.
Правда, есть один сближающий их момент: оба мыслителя подчеркивают свою «антибуржуазность», причем указывают на, так сказать, экзистенциальные предпосылки. В одном интервью де Бенуа вспоминал, что по отцу он принадлежит древнему дворянскому (изначально бельгийскому) роду, а мать происходит из набожных крестьян – у этих сословий всегда были непростые отношения с городской буржуазией.
Родители Мишеа не просто выходцы из рабочих: участники Сопротивления и коммунисты, они принадлежали к тому «активу» ФКП, который был тесно связан со специфической субкультурой «народных кварталов» и муниципалитетов, руководимых членами компартии. Отец долгое время был журналистом «Юманите», дома была библиотека, типичная для этой среды: наряду с трудами «классиков марксизма» в ней присутствовали переведенные на французский сочинения советских литераторов – не так часто можно встретить французов, которые ссылались бы на романы Алексея Толстого.
Даже к мысли о поступлении на философский факультет Сорбонны Мишеа пришел, прочитав в 15 лет «Материализм и эмпириокритицизм». Поэтому его вступление в ФКП было чем-то само собой разумеющимся, равно как для де Бенуа было вполне органичным начало политической деятельности в юные годы на противоположной стороне – среди тех, кто был близок ОАС и противостоял де Голлю справа6.
Хотя от ультраправых с их превознесением белой расы он довольно быстро отошел и примирился с правлением генерала после выхода Франции из военной организации НАТО, характерные следы интеллектуальных увлечений той поры сохранились – философия Ф. Ницше, исследования Ж. Дюмезиля относительно иерархической социальной структуры индоевропейцев интересовали его не только в те годы, когда де Бенуа учился на юридическом факультете Сорбонны.
Правда, на его формирование как философа определенное влияние оказал логиче- ский позитивизм, в ту пору почти неизвестный во Франции; де Бенуа даже написал большую монографию о Венском кружке. Но раннюю славу и широкую известность ему принесла книга «Взгляд справа» (1977) и создание журналов «Новая школа» и «Элементы», равно как и «Группы изучения европейской цивилизации» (GRECE) – доныне влиятельных центров тех, кого тогда назвали «новыми правыми».
На какое-то время он получил важный пост в еженедельном приложении к газете «Фигаро» (Figaro Magazine), которое в конце 1970-х гг. возглавил Л. Повельс, желавший сочетать эзотерику и науку, выпустивший незадолго до этого нашумевшую повесть-памфлет [Pauwels, 1976], в которой эгалитаризм и социализм были подвергнуты уничижительной критике.
Отошедший от крайностей ультраправых, де Бенуа сохранил неприязнь как к коммунизму и либерализму, так и к христианству. Прослеживание эволюции его «неоязычества» к «этноплюрализму», солидарности со странами «третьего мира», экологизму потребовало бы нескольких статей, поскольку де Бенуа является автором примерно сотни книг и бесчисленных статей. Для понимания собственно философских его воззрений важно понимать точку отсчета: это прежде всего немецкая философская мысль.
Он опирается на онтологию М. Хайдеггера, философскую антропологию Х. Плеснера и А. Гелена, а в области политической философии во многом следует за К. Шмиттом и всей традицией консерватив- ной революции – в частности, он писал об Э. Юнгере и А. Мёллере ван ден Бруке. Последнему принадлежат слова: «Либерализм хоронил культуры. Он уничтожал религии. Он разрушал отечества. Он был саморазложением человечества». Именно такое видение было унаследовано де Бенуа. Антикоммунизм и антиамериканизм были исходными для всей его критики современности.
Либерализм, коммунизм и фашизм были тремя идеологиями, которые уничтожали многообразие народов и культур, подчиняя их той или иной версии унифицированного мира. После падения фашизма и коммунистической системы остался либерализм – именно он становится главным противником, а потому де Бенуа пишет одну за другой книги, направленные против экономических, политических и правовых оснований либерализма.
Отличия Ж.-К. Мишеа от де Бенуа заметны не только в том, что первому исходно был присущ «взгляд слева». Если де Бенуа выступает как организатор журналов и think-tanks, долгое время был активен в СМИ, то Мишеа работал преподавателем философии в средней школе, долгое время вообще не публиковался, а выйдя на пенсию, уехал в отдаленную деревню и старается не общаться с журналистами.
Так как свои философские воззрения он охарактеризовал как близкие эпикуреизму, можно вспомнить слова, приписываемые другому античному атомисту: «Проживи незаметно». Если де Бенуа написал около ста книг и объясняет такую плодовитость тем, что он более полувека без выходных трудится по 10 часов в день, то Мишеа ссылается на свою лень – пишет он медленно и только тогда, когда есть настроение.
Почти все его книги представляют собой расширенные статьи, доклады или интервью: к небольшому первоначальному тексту он добавляет схолии, а к ним приложения и примечания – эти выстроенные «лесенкой» книги приходится читать, перелистывая страницы вперед-назад, чтобы не утратить логику изложения.
По ссылкам видна чрезвычайно большая начитанность Мишеа, но немецкая философская мысль для него не так уж важна. Зато он внимательно следил за литературой по широкому кругу социально-экономических проблем, причем не только французской, но также англоязычной. От де Бенуа его отличает и достаточно высокая оценка психоанализа. Его постоянная полемика с французскими социалистами и коммунистами (троцкистами, маоистами и т.п.) показывает превосходное знание истории социализма во Франции XIX в., когда марксизм сталкивался с другими версиями социализма, – Мишеа можно считать наследником этих течений, прежде всего Прудона.
Стиль Мишеа афористичен, он обладает даром кратко и емко характеризовать сложные темы; орудием полемики часто выступает ирония, иногда переходящая в сатиру, особенно когда он пишет о французских «левых» политиках, министрах, а также кумирах «левой» мысли, вроде Фуко, Делёза или Бадью. Из неортодоксальных марксистов той поры он высоко ценит Касториадиса, а из немарксистских со- циалистов прежде всего К. Поланьи и К. Лэша.
У Оруэлла он нашел идею мораль- ного осуждения как либерализма, так и государственного социализма с позиций common decency – тех базовых человеческих добродетелей, которые повсеместны и присущи простым людям. Он соединил ее с наблюдениями социолога и этнографа М. Мосса в работе «Опыт о даре»: в основе всех человеческих сообществ лежит отношение взаимности – «дарить, принимать, воздавать»; оно является конститутивным для человеческой природы. В дальнейшем он обнаружил, что к близким мыслям подходили анархисты, прежде всего Прудон с его «мютюэлизмом» и федерализмом.
Мишеа был студентом Сорбонны в мае 1968 г., участвовал в студенческих вы- ступлениях, но быстро обнаружил, что вожаки этих студентов, вроде Д. Кон-Бендита, являются очевидными карьеристами, а бунт остальных можно описывать в терминах Фрейда: дети буржуа восстают против своих отцов, но, «перебесившись», они станут такими же буржуа.
Какое-то время он был активистом компартии, вел занятия по марксистской философии с рабочими, но к середине 1970-х партию покинул, поскольку разочаровался не только в бюрократически управляемой ФКП и в советском «реальном социализме» – сама марксистская догматика стала вызывать сомнения. Оставаясь социалистом, Мишеа по-прежнему часто цитирует Маркса и Энгельса и считает их серьезными мыслителями, но не скрывает и негативной оценки уже не только советского «диалектического материализма», но и ряда положений самих «классиков».
Унаследованное от сен-симонистов преклонение перед преображающей мир крупной промышленностью, вера в плановую экономику и в непрестанный рост производительных сил привели к советской иерархии, всевластию КПСС и всему тому, что из них последовало. «Анти-Дюринг» Энгельса сделался обоснованием системы государственного капитализма, ничуть не менее эксплуататорской, чем западный его вариант.
Не случайно первая книга Мишеа была посвящена Дж. Оруэллу, критику советской системы, остававшемуся при этом сторонником «либертарного социализма». Из небольшой статьи издатель посоветовал Мишеа сделать книгу; она вышла под названием «Оруэлл – анархист тори» [Michea, 1995] [7]. За ней последовала небольшая книга «Образование невежества» [Michea, 1999], в которой автор начал сводить счеты с теми экспериментами в среднем образовании, которые продвигались преж- де всего министрами-социалистами сначала при Миттеране, а затем в те времена, когда социалистическим правительством в президентство Ширака руководил Л. Жоспен.
Общая оценка происходящего в системе образования в капиталистическом мире у Мишеа совпадает со взглядом многих критиков: общество все более делится на элиту и «плебс», настоящее широкое образование дается незначительному меньшинству, сносное узкопрофессиональное – обслуживающему эту систему техническому персоналу, тогда как прочим достается все более убогое: они должны осваивать самые немудреные профессии, да еще должны уметь читать рекламные слоганы.
Но во Франции наступление такой отработанной в США системы вступало в конфликт с долгой традицией республиканской школы, причем в 1990-е гг. сопротивление последней было активным. Можно сказать, что Мишеа был прозорлив, – сегодня это сопротивление практически сломлено, причем под лозунги о «демократизации», «заботе о ребенке», «доступности для детей мигрантов» и т.п. Осуществляли эти реформы министры-социалисты. С этой книги начинается полемика Мишеа с «левыми», которая особенно ярко представлена в книге «Комплекс Орфея» [Michea, 2011].
В ней он рассматривает генеалогию французских «левых», подчеркивая, что изначально таковыми считались буржуазные либералы и радикалы, тогда как рабочее движение исходно им противостояло – и в 1848 и в 1871 гг. революционные выступления рабочих подавляли не какие-то роялисты, а именно буржуа.
После долгих сомнений возглавляемые Ж. Жоресом социалисты пошли на временный союз с либералами и радикалами в период «дела Дрейфуса», но с этого момента социалисты начали регулярно сдавать свои позиции, превращаясь в одну из фракций «левых». Движение это завершилось в начале 1980-х гг., когда президент Ф. Миттеран назначил премьер-министром М. Рокара, который стал проводить экономическую политику, мало чем отличавшуюся от тэтчеризма.
С той поры во Франции существуют две буржуазные партии, по-прежнему именуемые «правыми» и «левыми», но различия между ними минимальны. Кстати, те же самые наблюдения и выводы мы находим в книге де Бенуа [Benoist, 2017] о завершении прежних идеологических конфликтов французских элит: противостояние «левых» и «правых» завершилось их слиянием, а противостоит им теперь народ.
Общим для Мишеа и Бенуа является и взгляд на французских «леваков», занятых играми в «борьбу с дискриминацией», «защитой прав меньшинств» и т.п., – правила этих игр установлены капиталистическими корпорациями и необходимы для разрушения прежних национальных, религиозных и классовых идентичностей. Догматом нынешних «левых» являются «права человека», абстрактного индивида, свободного от всех прежних традиций и общностей.
Именно этот индивид предполагается всей идейной системой либерализма, в которой сочетаются экономические, правовые и политические учения. Подобно тому, как капитализм является «тотальным социальным фактом», либерализм необходимо рассматривать как целостность, обладающую конститутивными принципами, – они составляют либеральную философию. Именно специфическое либеральное учение о человеке, «антропологическая ошибка» (на Милбэнка ссылаются и Мишеа, и де Бенуа) задает аксиомы, из коих выводятся экономические и правовые следствия.
Поэтому нет никакого смысла проводить различия между «классическим» либерализмом и тем «ультралиберализмом», который критикуют и некоторые «левые», и «суверенисты» (включая и таких политиков, как Марин Ле Пен). Либерализм есть коррелят капитализма, они возникают одновременно и приходят вместе с господством определенного типа человека. Конечно, за два последних века имелось множество либеральных учений, иной раз противостоящих друг другу, но не ме- нялось ядро либерализма, которое содержит трактовку человека и общества, возникшую существенно раньше.
Она не сводится к индивидуализму, поскольку, как отмечает де Бенуа, в истории мы сталкиваемся с разными типами индивидуализма: есть индивидуализм аристократии, индивидуализм художников и артистов, анархистов и т.д. [Benoist, 2019, p. 13]. Точно так же мы видим в истории множество эгои- стов и эгоцентриков, которые не были либералами, а среди последних обнаружим немалое число тех, кто лично был щедрым и стремящимся к общему благу. Вопрос в том, как понимается общественное благо и какие следствия из этого понимания проистекают.
Для либерализма человек определяется как обладатель неотчуждаемых прав, предшествующих любым социальным институтам. Каждый индивид наделен правами, общество состоит из индивидов (атомов – in-divide), преследующих свои собственные цели. Он владеет самим собой, частная собственность опирается на такое «самообладание», поскольку входит в магический круг privacy; он сам выбирает свой жизненный путь, приоритеты, действия – с прочими его связывают исключительно контрактные отношения.
Общество покоится на договоре между ничем друг другу не обязанными индивидами. Свобода индивида есть свобода от внешнего принуждения, это вообще «свобода от» – «негативная свобода» в тер- минах И. Берлина. Быть свободным делать нечто отличается от способности делать нечто. Неспособность делать нечто становится несвободой лишь в том случае, когда есть принуждение со стороны других. Быть человеком означает «иметь право»: «…общество индивидов есть общество, в котором носитель прав – индивид является единственным источником легитимности, ибо подлинно человеческим можно считать лишь обособленного носителя прав» [ibid., p. 14].
Все социальные связи, не исключая отношений в религиозной общине, отечестве, армии, семье, предста- ют как контракты. У каждого имеются собственные представления о морали или Боге, они просто не должны препятствовать другим и нарушать их права. Поэтому утверждается аксиологическая нейтральность права. Автономные субъекты конкурируют, а юридическая система регулирует их борьбу, не доводя до взаимоуничтожения. Общество предстает как свободный рынок, а те «права человека», о которых говорят конституции и хартии, суть прежде всего права производителей и потребителей.
Таков в предельно кратком изложении образ либерализма у обоих французских авторов. Разумеется, этот образ не нов – так представляли капитализм его противники уже в XIX в. Можно вспомнить, что писал Маркс о «Робинзонаде», да и начинал он критику либеральных «прав человека» еще в ранних произведениях, написанных, когда он еще не был коммунистом (скажем, в статье-рецензии «К еврейскому вопросу»). Само слово «социализм» вводилось П. Леру в оппозиции к «либерализму». Специфическим является то, как видится генеалогия такой концепции человека.
Либерализм представляет собой философский проект [8], который сделался впоследствии влиятельной идеологией и воплотился в общественные институты лишь в XIX в., после той «великой трансформации» (К. Поланьи), которая сломала прежние социальные формы. Этому проекту посвящены последние работы Мишеа («Империя меньшего зла» и «Наш враг капитал») и де Бенуа – «Против либерализма. Общество – не рынок» [9].
Так как нас интересует именно критика философских идей, мы сосредоточимся на том, как понимается ими генезис, возникновение «либе- ральной идеи», тогда как критика капиталистической системы и правовых доктрин, которым Мишеа и де Бенуа уделяют немалое внимание, потребовала бы другой (и значительно более обширной) публикации.
Прежде всего оба мыслителя оспаривают преемственность между либерализмом и предшествующими учениями о свободе. Собственно говоря, на это указывал первый французский либерал Б. Констан, отличавший «свободу древних» как свободу участия в общественной жизни от «свободы современных» (Modernes) как свободы обособления.
Оспаривать им приходится не только потому, что либералы так любят ссылаться на речь Перикла, но и по той причине, что восходящие к древнему республиканизму идеи часто смешиваются с либеральными – в том числе у крупных мыслителей. А. де Токвиль и Э. Ренан в XIX в. и Р. Арон в ХХ в. могут служить примером такого смешения.
Республиканизм, берущий свое начало в Античности, присутствовал в политической мысли эпохи Возрождения (Макиавелли) и Нового времени, причем даже у тех мыслителей эпохи Просвещения, которых уже можно считать предшественниками либерализма, – и Хатчинсон, и Гельвеций сожалеют о том, что «торговое общество» ведет к упадку общественных добродетелей. Никак не заслуживают доверия авторы, относящие все Просвещение к источнику либерализма, тогда как консерватизм (а иной раз и социализм) относят к «романтической реакции».
К Просвещению относятся и предшественники социализма (Мабли, Годвин) и консерватизма (Бёрк), да и Руссо никак не записать в либералы. Мишеа даже считает либеральную философию наиболее оригинальной, никак не связанной с идущей от Античности традицией, в отличие от консерватизма и социализма, которые все же ставят на первое место индивидуальные добродетели и общественное благо. Либерализм есть «модерная идеология по преимуществу» (l’idéologie moderne par excellence) [Michea, 2007, p. 19]. Мы живем в рамках «либеральной цивилизации», сформированной этим проектом.
Для Мишеа этот проект рождается во время религиозных войн XVII в. Первоначально он связан с пессимистическим видением человека, которым владеют иррациональные влечения и страхи. Прежние учения о добродетелях ставятся под сомнение – добродетелями оказываются лицемерно переодетые интересы («себялюбие» Ларошфуко); сдерживать насилие способна только безусловная власть суверена, а народ, о котором говорили древние республиканцы, является «парнем крепким, но злокозненным» (Гоббс).
Естественное состояние есть «война всех против всех», а гражданская война является худшим из зол. Начальный пункт либеральной мысли связан с видением того, что гражданские войны начинаются с войн идеологических – сначала с религиозного фанатизма, потом оправдываемого общественным благом революционного террора. Защита жизни и собственности во времена войн и смут – вот первоначальный мотив дальних предшественников либерализма. Так как это обеспечивается сильной рукой государя, то буржуа XVII–XVIII вв. становится сторонником «просвещенной монархии», чтобы затем, набравшись сил, забрать всю власть в свои руки.
Вместе с ростом влияния буржуазии растет и ее оптимизм: со времен «Богатства народов» А. Смита экономика становится «наукой наук», са- морегуляция рынка делается чуть ли не религиозным догматом, а «невидимая рука» приравнивается к Провидению. Стоит избавиться от прежних «пут» – каковыми выступают доставшиеся от традиции политические, региональные, религиозные институты, – как человечество двинется по пути прогресса. Хотя нынешний идеал прогресса поначалу не обещал некоего рая земного, но «был желанием любой ценой избежать ада идеологической гражданской войны» [Michea, 2007, p. 29], уже ко второй половине XIX в. он стал сердцевиной либеральной идеологии.
Мишеа раз за разом указывает на интеллектуальное убожество сегодняшней economics, унаследовавшей от классической политэкономии механицизм галилеевской физики, примененной к социальным «атомам». Еще ниже он ставит дополняющую ее «левую» социологию (включая и социологию П. Бурдьё) – вся эта «социальная физика» покоится на идеологических основаниях. Иррациональным страстям и фанатической вере были противопоставлены рациональность торговли, юридического контракта и математического расчета – они отныне считаются образцом разумности, ведущей человечество «все выше и выше».
Все, что препятствует работе механизма саморегуляции, останавливает экономический рост, а именно он свидетельствует о продвижении не просто к достатку, но к совершенствованию человечества. Рост ВВП на душу населения выступает мерилом прогресса. Мишеа не похож на истеричных экологистов, он приветствует развитие науки и техники, но вся эта машина, все ускоряясь, движется к пропасти.
Даже если считать ВВП по покупательной способности, он включает в себя производство примерно 20 процентов ненужного или даже вредного, средства на хранение и уничтожение невостребованного, безумные расходы на рекламу и маркетинг, на растущую бюрократию корпораций, биржевых спекулянтов и всякого сорта «посредников», вплоть до фантастического мира услуг, большая часть которых показалась бы вредоносной и аморальной людям всех предшествующих обществ.
В идеализированном изображении этой системы ее идеологами она предстает как свободный рынок, в рамках которого свободно конкурируют человеческие монады согласно юридическому регламенту, который, с одной стороны, защищает эту свободную конкуренцию, а с другой стороны, «гарантирует каждой монаде (или каждой свободной их ассоциации) право жить согласно ее собственному частному определению благой жизни.
Иначе говоря, связное либеральное общество определяется как мирный агрегат абстрактных индивидов, которые – если они глобально уважают права – полагаются не имеющими друг с другом ничего общего (ни язык, ни культуру, ни историю), помимо общего желания соучаствовать в Росте как производители и/или потребители» [ibid., p. 111]. Только средствами этого непрестанного роста является разрушение всех прежних сообществ, унаследованных от прошлого институтов, вплоть до семьи, расширенное производство человеческого типа, который уже не похож даже на не слишком симпатичных грюндеров и рантье прошлого.
Система образования играет немалую роль в порождении индивидов, которые лишены всех атрибутов, кроме способности производить и потреблять. Тупик такой цивилизационной модели хорошо заметен уже потому, что методичное уничтожение прежних человеческих типов несет угрозу самой капиталистической системе, поскольку ее доныне сохраняющаяся эффективность многим обязана тому, что еще сохраняются квалифицированные рабочие и техники, бескорыстные ученые и врачи, неподкупные судьи и прочие группы, доставшиеся нынешнему глобальному капитализму от прошлого.
Расширенно воспроизводимый и превозносимый сегодня homo economicus становится все большей обузой даже для экономики и техники современной цивилизации. Капитализм без границ представляет собой «гигантскую машину измельчания человечества» [Michea, 2011, p. 95]; достаточно посмотреть на тех, кого именуют ныне «элитой», чтобы усомниться в благоприятных перспективах этой цивилизации, – алчность, лицемерие, хищничество существовали во все времена, но прежние правящие слои были хотя бы вынужденно ответственными и мужественными.
Если рантье времен Belle Epoque иной раз называли «паразитами», то сегодня господство «людей Давоса» предстает как своего рода «бал вампиров». Наконец, эта система ведет все человечество к экологической катастрофе. Мишеа не разделяет позиции тех, кто призывает остановить заводы и электростанции из-за климатической катастрофы – пока что прогнозы такого рода сомнительны. Но нельзя усомниться в том, что динамика глобализации уже подвела человечество к пропасти. Если потребление еще пары миллиардов человек достигнет уровня США или даже Португалии, нам потребуются 2‒3 дополнительных земных атмосферы.
Так как эта система угрожает многообразию существующих культур, языков, обычаев, Мишеа всерьез именует себя «консерватором», имея в виду буквальное значение этого слова – от «прогресса» нужно обороняться всеми силами. Он с гордостью говорит и о своем популизме: всем народам Земли угрожает сегодня одна и та же элита из «людей ниоткуда» (from nowhere), причем к врагам этих народов ныне относятся не только акционеры и менеджеры корпораций, но также и почти вся «левая» публика из СМИ, артистическая богема и прочий обслуживающий персонал глобализма.
Разрушение американской народной культуры начали именно «новые левые», продвигающие «толерантность» и «защиту меньшинств». То же самое происходит и во Франции. Сфера рекламы, индустрии развлечений, телевизионных программ и т.п. сегодня есть сфера тоталитарного контроля, способствующая атомизации и разрушению любых местных и религиозных идентичностей [ibid., p. 250‒251]. Сопротивление ходу этой машины оправданно и необходимо – полтора года назад, во время бурных выступлений людей из французской провинции, Мишеа не случайно часто называли «философом желтых жилетов».
Де Бенуа приходит к тем же выводам, хотя предпосылки у него иные. Как было сказано выше, точкой отсчета являются воззрения мыслителей, относимых к немецкой «консервативной революции». Говоря об эпохе модерна в целом, он ссылается на философию техники Хайдеггера (Gestell, Machenschaft), его генеалогия субъективизма Нового времени начинается с христианства – к прежнему ницшеанству добавилось заимствованное у А. Гелена («Первочеловек и поздняя культура») понимание христианства как орудия разрушения холистических обществ.
Его очерк «Фигура буржуа» опирается прежде всего на работы В. Зомбарта, но виден след чтения и Тённиса (переход от Gemeinschaft к Gesellschaft), и Зиммеля («Философия денег»). Однако в центре его внимания находится современный капитализм эпохи глобализации (мондиализации, как говорят французы), а потому он обращается к современным спорам и доктринам.
Он внимательно следит за дебатами между американскими либералами и коммунитаристами, учитывает аргументы группы исследователей марксистской теории ценностей (Wertkritik), группирующихся вокруг немецкого журнала «Кризис», да и список проработанных им трудов по экономике, социологии и геополитике вышел бы долгим.
Так как в наши задачи не входит рассмотрение всего им сказанного относительно современного капитализма, отметим, что он куда большее, чем Мишеа, внимание уделяет теории права, причем его критика доктрины прав человека опирается не столько на К. Шмитта, сколько на труды виднейшего французского философа права второй половины ХХ в. М. Виллея, католика и аристотелика, полагавшего, что нынешняя доктрина «прав человека» противоречит самой идее права, является источником релятивизма и нигилизма, пролагающего путь к тирании [см. Villey, 1983].
Начальный пункт либерализма он находит в номинализме поздней схоластики, утверждавшем, что существует лишь индивидуальное; этого круга идей будетдержаться в дальнейшем весь эмпиризм Нового времени. У предельно бедной метафизики, утверждающей, что общее имеется только в наших представлениях, а из сущего не следует должное, оказались «богатые» последствия – из «умеренного номинализма» проистекает не только теория познания Локка, но и его политическая философия в «Трактатах о правлении», а они легли в основу британского и французского Просвещения.
Де Бенуа разоблачает миф о противостоянии либералов государству во имя свободы: теория «ночного сторожа» прикрывала то, что либеральные институты навязывались посредством вмешательства сначала абсолютных монархий, в которых городская буржуазия поддерживала королей в их борьбе за централизацию, а затем, в XIX в. – уже собственно буржуазного государства. Саморегулируемый рынок насаждался по ходу «великой трансформации», а буржуазия немедленно прибегала к государственному насилию, сталкиваясь с сопротивлением, идет ли речь о британских чартистах или парижских «синеблузниках» в 1848 г.
Не стоит доверять и либеральной прессе XIX в. с ее криками о «реакции» всякий раз, как государство вынуждено было вмешиваться и вводить ограничения на «свободу рынка», когда неравенство, нищета, детский труд и прочие «прелести» тогдашнего капитализма угрожали стабильности самого буржуазного строя. Де Бенуа видит в либерализме доктрину, которая трактует все общество как рынок и желает перенести на все его подсистемы логику контракта и получения прибыли.
Сегодня эта система подошла к своему пределу, поскольку она подрывает собственный фундамент. Ошибкой ортодоксальных «марксистов» было то, что они «оставались пленниками философии прогресса, которая куда большим обязана капитализму, нежели социализму, будучи своего рода религией производительности» [Benoist, 2019, p. 331‒332].
Сторонники социализма должны избавиться от значительной части марксистского наследия, но еще большая трансформация предстоит консерваторам. «Реакционный» консерватизм первой половины XIX в. давно в прошлом, равно как и «либеральный консерватизм» конца этого столетия; именуемый «неоконсерватизмом» глобальный либерализм практически вытеснил все вменяемые консервативные учения ХХ столетия. От консерватизма сохраняется недоверие ко всем формам веры в автоматический прогресс, но он утратил свою привязанность к органическим формам сосуществования – на Западе они уже почти полностью уничтожены.
Де Бенуа подвергает резкой критике тех сегодняшних консерваторов, которые сочетают свою религиозную и национальную идентичность с экономическим либерализмом: вполне уважаемые им мыслители (вроде недавно умершего Р. Скрутона) живут иллюзиями, поскольку логика либерального капитализма разрушительна для всех тех институтов, которых еще держатся европейские и американские консерваторы.
Де Бенуа ссылается на представителей немецкой консервативной революции, утверждавших, что лишь революция способна сохранить то, что заслуживает сохранения. Сегодня нужно искать свои способы соединения консервативной и революционной мысли, и де Бенуа находит, что «консервативный анархизм» таких пришедших «слева» мыслителей, как Дж. Оруэлл, К. Лэш, И. Иллич, Г. Андерс и тот же Ж.-К. Мишеа, куда лучше соответствует духу времени, чем ностальгически настроенный консерватизм, смиряющийся с либеральным миропорядком.
Если во Франции бывшие «правые» и бывшие «левые» элиты соединились в партии Макрона, то «консервативный анархизм» объединяет тех, кто отстаивает права большинства народа, – поэтому он именует себя также «популизмом». Об угрозе экологической катастрофы де Бенуа говорит даже чаще, чем Мишеа. Об истреблении малых народов, языков, региональных субкультур он писал еще в то время, когда считался «новым правым»; сегодня он пишет об исчезновении биологического многообразия, вымирании видов – машина современной цивилизации оставляет за собой пустыню.
Общий противник объединяет людей, которые ранее придерживались противоположных позиций. Таковым оказался сегодня либерализм. Краткое изложение взглядов лишь в малой степени у нас известного де Бенуа и совершенно неизвестного Мишеа является неизбежно фрагментарным и упрощенным.
Оставим без комментариев вопрос об осуществимости положительной программы этого «народничества», желающего воплотить давние проекты социалистов и анархистов XIX в., дополненные консервативным учетом традиций и экологизмом: как совместить «свободную ассоциацию трудящихся» и артель с разделением труда, крупной промышленностью, банками, не говоря уж о современном государственном аппарате, остается без ответа.
Так как нас интересовало их видение либеральной антропологии или либерального проекта, осуществленного современным капитализмом, критически оценить следует прежде всего ту генеалогию абстрактного индивида, которую мы находим у этих авторов. Она является, конечно, тенденциозной – о врагах иначе и не пишут. Однако даже с учетом этой политической логики разграничения «друга» и «врага» необходимо вспомнить, что имелись иные генеалогии, в которых у либералов находились иные предшественники.
Очевидным образом отсутствует у обоих авторов протестантизм, причем не толь- ко в его кальвинистской версии – хоть британские виги, хоть американские просветители были вполне умеренными прихожанами англиканской церкви, пресвитерианами, унитариями (а заодно и масонами). Иначе говоря, в религиозных войнах XVII в. предшественники либералов занимали вполне определенную активную позицию, а их наследники произносили «раздавить гадину», имея в виду католическую церковь.
Чуть ли не половину «Левиафана» Гоббса составляет критика «царства тьмы» католицизма, а «черная легенда» по поводу Испании времен Филиппа II создавалась и несколько веков распространялась прежде всего англосаксами, хотя в Англии было казнено больше католиков, чем протестантов и марранов, вместе взятых, прошедших через испанские суды инквизиции.
Явным и даже нарочитым является пропуск всего Ренессанса.
Разумеется, не стоит верить на слово либеральным историкам и публицистам, выводящим самих себя, равно как всю пишущую и болтающую публику, желающую видеть в своих предшественниках «титанов Возрождения». Красочный индивидуализм итальянских гуманистов мало чем напоминает хоть «мирскую аскезу» скопидомов, хоть пустословие «защитников свободы», будь то Б. Анри-Леви или какой-нибудь «грантоед», обслуживающий очередную «оранжевую революцию».
Тем не менее совсем не случайно то, что Возрождение как отдельная эпоха была открыта в середине XIX в. во время торжества либеральной идеологии, а описание этого индивидуализма вполне консервативным Я. Буркхардтом заставляет вспомнить и о либерализме. Своего рода генеалогию как либерализма, так и европейской субъективности Нового времени можно найти и в «Феноменологии духа» Гегеля.
Он еще не говорит о Возрождении, которое откроют тот же Буркхардт и Мишле через полвека, но стоит перечитать небольшой раздел «Удовольствие и необходимость», чтобы увидеть куда более сложный генезис того «абстрактного индивида», который сделался в дальнейшем homo economicus. В любом случае исключать гуманизм этой эпохи из подобной генеалогии не следует, причем это относится не только к наследникам греческой Пайдейи из числа итальянских литераторов, но и к христианскому гуманизму Эразма [10].
Кстати, гимназическое образование либеральной эпохи до не так уж давнего времени включало в себя обязательное изучение древнегреческого и латинского языков, античной истории – образцы для элиты искали именно в диалогах Платона и Цицерона, а поворот к расширенному воспроизводству невежд во всем, кроме узкой профессии, произошел уже после Второй мировой войны.
Национал-либералов начала ХХ в., идет ли речь о британских вигах или членах Alldeutsches Verband, можно критиковать за многое, начиная с империализма и колониализма, но они мало чем похожи на сегодняшних «людей Давоса», к которым лучше всего подходят сказанные о Людовике Орлеанском слова: «Алчный и сладостный» (cupide et doux).
Вызывает сомнения и то, что образ человека в либерализме оставался одним и тем же на протяжении столетий. Менялась сама либеральная идеология, причем во второй трети ХХ столетия смена была резкой. Либерализм XIX в. был антидемократичен, выражал умонастроения небольшой верхушки буржуазии, потеснившей в Европе прежнюю аристократию, а в США лишь на словах сохранявшей верность характерной для этой страны демократии. Но эта плутократия вынуждена была отступить в условиях экономического кризиса и мировых войн. Сошлюсь на несомненного либерала, которого можно считать идеологом New Deal Рузвельта, философа Д. Дьюи.
Он хорошо описал «глубокую трещину», которая изначально присутствовала в либерализме. Хотя им всегда провозглашался идеал индивидуальной свободы, но для одних правительство должно было вмешиваться в экономику, дабы выравнивать условия для богатых и бедных, вводить прогрессивное налогообложение, чтобы финансировать больницы и школы, тогда как для других все подоб- ные вмешательства были нестерпимым нарушением свободы предпринимательства, каковая была для них равнозначна свободе как таковой.
Дьюи полагал, что либерализм laissez faire уже «выбыл из игры», причем по вине собственной практики: «Любая система, не способная обеспечить элементарную уверенность для индивидов, не может притязать на звание системы, созданной во имя свободы и развития индивидов» [Дьюи, 2003, с. 229]. При этом Дьюи отмечал и очевидную для него ошибку в понимании человеческой природы и общества, свойственную уже раннему либерализму.
Естественными законами для него были законы экономические, тогда как политические относились к искусственным. Поэтому вмешательство государства в экономику трактовалось как посягательство и на внутреннюю свободу личности, и на сами естественные законы, к каковым относили закон спроса и предложения.
«Индивид раннего либерализма был подобен атому Ньютона, имеющему чисто внешние пространственно-временные отношения с подобными единицами, с той только разницей, что в “комплект” каждого социального атома еще входила внутренняя свобода» [там же, с. 231]. А такого рода антропология и социология неизбежно вели к «деградации либерализма», к превращению идеи индивидуализма в орудие предотвращения любых социальных реформ.
Сходные идеи обнаруживаются в трудах и немецких представителей ORDO-Liberalismus времен Веймарской республики, и у таких французских мыслителей и политиков, как П. Мендес-Франс или Р. Арон. Эта разновидность либерализма предполагала чрезвычайно высокие налоги на прибыль, перераспределение доходов в пользу малоимущих и была куда более «щедрой» [11], чем «манчестерский капитализм», переходящий в социал-дарвинизм.
Идет ли речь об американском Welfare State, французском L’Etat-Providence или немецком Soziale Marktwirtschaft, под либерализмом подразумевалось индустриальное общество, которое сохраняло права и свободы, в отличие от конкурировавшей с ним советской системы. Этот социальный либерализм опирался на расширявшийся на протяжении 30 послевоенных лет средний класс, который разоряется и сжимается при господстве сегодняшнего неолиберализма – слово осталось то же самое, но за ним стоят совершенно иная экономическая реальность и политика правящей элиты.
Если либерализм означает защиту частной собственности, то она начинается в «Политике» Аристотеля; если речь идет о верховенстве права, разделении властей, свободе совести, то число его предшественников разрастается и включает в себя еще множество мыслителей и политиков. Даже идея «негативной свободы» не обязательна для многих признанных либералами философов, а элементы республиканизма никогда окончательно не исчезали хоть из доктринальных текстов, хоть из партийных программ.
Поэтому в истории либерализма – как и в случаях консерватизма и социализма – мы не находим одной непременной идеи, которая восходит к номиналистам, Т. Гоббсу или Б. Констану, и не меняется со временем. История не завершилась, и мы вполне можем ожидать, что наступивший кризис глобализации приведет и к пересмотру сегодняшней версии либерализма.
Так как Ж.-К. Мишеа и А. де Бенуа пишут именно об этой версии, то им трудно возразить – в последние десятилетия либерализмом стали именовать набор клише о саморегулирующихся финансовых рынках, «правах человека» (в особенности тогда, когда готовятся «гуманитарные интервенции»), «политической корректности» и прочих незамысловатых поделках, служащих власти над миром нескольких сотен корпораций.
Эта идеология чем-то напоминает научный коммунизм своим видением геополитики: американский экс-президент прямо определил, кто находится «на правильной стороне истории». В шуточной форме эту небескорыстную телеологию охарактеризовали: «Дважды два – четыре, а завтра будет еще лучше».
Понятно изумление не только немолодых французских философов, но и всякого стороннего наблюдателя, видящего, какой тип человека провозглашается идеалом, сколь низким за пару десятилетий стал интеллектуальный и нравственный уровень правящих элит и обслуживающих их журналистов, идет ли речь о CNN или New York Times, Frankfurter Allgemeine или Le Monde, что скрывается за играми в рейтинги университетов или за списками «100 наиболее влиятельных мыслителей современности». Только ведь все это убожество, как и все в человеческом мире, преходяще. Со сменой декораций и пьесы поменяются и актеры. Вопрос лишь в том, кто придет вместо них.
* * * * *
[1] Стоит вспомнить о том, что Сорокин не только разоблачал большевизм в «Социологии револю- ции», но также крайне резко отзывался об экономической и политической системе его нового оте- чества как о «реакционной плутократии» (например, в классическом своем труде о социальной мо- бильности).
[2] До 80 процентов телеканалов и печатных изданий принадлежат 7 миллиардерам, а государственные каналы жестко контролируются, причем особенно ощутимой цензура сделалась во времена президентства социалиста Олланда.
[3] Самый мягкий эпитет для нее – «идиоты с дипломами» (имеются в виду дипломы престижной ENA, школы, кующей управленческие кадры). В последней своей книге он провел анализ измене- ний доходов разных социальных групп и пришел к выводу: за последние три десятилетия в выиг- рыше оказался всего лишь 1 процент населения, а правит Францией 0,1 процента, причем это даже не предприниматели, а верхушка бюрократии, слившаяся с возглавляющими политические партии коррупционерами.
[4] Конфликт со всей «левой» парижской тусовкой, в которой Лакан и Сартр причислены к непререкаемым авторитетам, не отменяет родства с прочими «левыми ницшеанцами», на что он сам указывает [см. Onfray, 2012, p. 708‒711]. Впрочем, в последние 1‒2 года его оценки French Theory стали скорее негативными; он стремится объединить усилия левых и правых «суверенистов» в основанном недавно издании с характерным названием «Народный фронт».
[5] Хотя первый нередко цитирует второго, о влиянии вряд ли можно говорить.
[6] Стоит заметить, что ярлыки «вишисты» и «фашисты», издавна наклеенные на ОАС, являются именно удобными ярлыками: руководившие ОАС офицеры были участниками Сопротивления (а возглавлявший Р. Салан – близким соратником де Голля). Можно вспомнить и о том, что колониальную войну в Алжире вело правительство IV Республики, непременным министром внутренних дел которого был социалист Ф. Миттеран – в прошлом видный «вишист», а в будущем президент Франции.
[7] В дальнейшем Мишеа выпустил еще одну книгу об Оруэлле [Michea, 2003].
[8] «Либерализм является антропологической системой даже в большей степени, чем социально-экономической» [Бенуа, 2009, с. 12].
[9] Точно такое же название «Против либерализма» имеет и вышедший у нас в переводе сборник более ранних статей де Бенуа – отличается лишь подзаголовок. Некоторые статьи он включил и во французское издание, но в основном оно состоит из статей последних 4‒5 лет.
[10] Впрочем, связь гуманизма Эразма с патристикой тоже не вызывает сомнений, причем речь должна идти не только о латинской, ведущей к Цицерону, но также о греческой (прежде всего о Григории Нисском), прямо связывающей с эллинской Пайдейей [см. Йегер, 2014, с. 145‒147].
Список литературы
Бенуа, 2009 – Бенуа А. де. Против либерализма / Пер. с фр. СПб.: Амфора, 2009. 477 с.
Валлерстайн, 2003 – Валлерстайн И. После либерализма / Пер. с англ. М.М. Гурвица, П.М. Кудюкина, П.В. Феденко. М.: УРСС, 2003. 256 с.
Грей, 2003 – Грей Дж. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современ- ности / Пер. с англ. М.: Праксис, 2003. 367 с.
Дьюи, 2003 – Дьюи Д. Реконструкция в философии. Проблемы человека / Пер. с англ. Л.Е. Павловой. М.: Республика, 2003. 494 с.
Йегер, 2014 – Йегер В. Раннее христианство и греческая пайдейя / Пер. с англ. О.В. Алиевой. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2014. 215 с.
Пиккетти, 2015 – Пиккетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ad Marginem, 2015. 592 с.
Benoist, 2019 – Benoist A. de. Contre le liberalisme. La societé n’est pas un marché. Monaco: Rocher, 2019. 344 p.
Benoist, 2017 – Benoist A. de. Le moment populiste. Droite-gauche, c’est fini! P.: Pierre-Guillaume de Roux, 2017. 352 p.
Pauwels, 1976 – Pauwels L. Blumroch l’admirable ou Le dejeuner du surhomme. P.: Gallimard, 1976. 186 p.
Michea, 2008 – Michea J.-Cl. Orwell anarchiste tory. P.: Climats, 2008 (1995). 176 p.
Michea, 2003 – Michea, J.-Cl. Orwell educateur. P.: Climats, 2003. 96 p.
Michea, 1999 – Michea J.-Cl. L’enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes. P., 1999. 140 p.
Michea, 2011 – Michea J.-Cl. Le Complexe d’Orphée. La gauche, les gens ordinaires et la religion du progress. P.: Flammarion, 2011. 358 p.
Michea, 2007 – Michea J.-Cl. L’empire du moindre mal. Essai sur la civilization liberale. P.: Flam- marion, 2007. 210 p.
Onfray, 2012 – Onfray M. L’ordre libertaire, La vie philosphique d’Albert Camus. P.: Flammarion, 2012. 797 p.
Villey, 1983 – Villey M. Le Droit et les Droits de l’homme. P.: PUF, 1983. 176 p.
Автор: Алексей РУТКЕВИЧ