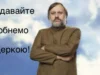Как книга появляется на свет? В случае с книгой Резы Негарестани «Интеллект и дух» [англ.: «Intelligence and Spirit» далее по тексту I&S] текст, по-видимому, прорывается наружу, словно из разрушенной плотины — гегелевские притоки, селларсианские течения и волны Тьюринга, ранее сдерживаемые столь колоссальной концептуальной преградой, что она составляла фатберг [fatberg, иначе жирберг] мысли.
Эта стагнация сводится не более чем к сопутствующей академической философии неспособности адекватно рассмотреть историческое разделение интеллекта и разума, осуществляемое вычислением. Ранние судороги этого захвата мысли ощущались в период между иерархией грамматик Хомского и дебатами функционалистов в 1970-х, вмешательствами Патнэма, Сёрла и Фодора среди прочих, а также последовавшим дискурсом о множественной реализуемости.
Глубокая заморозка исследований, ставшая первой Зимой ИИ, замедлила философский прогресс в вопросе соотношения вычисления, сознания и языка. Плодородная почва для сотрудничества вымерзла, в то время как исследования продолжались строго внутри дисциплинарных силосов.
Этот дух соединяющей мысли не оттаял до конца за последнее десятилетие или два, в течение которых продуктивное взаимодействие между информатикой, математикой, логикой, когнитивистикой и философией возникло вновь. Именно это новое созвездие игриво исследует I&S, углубляясь со всей трезвостью младенца в Леголенде в такие темы, как сложность (complexity) и алгоритмическая теория информации, предиктивное кодирование и постгуманизм.

I&S демонстрирует с трудом скрываемое презрение к тому, что Бадью однажды назвал схоластической школой философии, — к этому застою герменевтики, отмеченному бесконечными спорами, которые типичны при изучении канона. Вместо этого здесь принимается альтернативный взгляд на философию, как на конструктивный локус диалогического мышления. Его многочисленные интерлюдии, дигрессивная структура и головокружительные окольные пути — всё это указывает на отчётливо параакадемическую практику мышления.
Теоретизирование представлено как активный способ построения мира. На ум приходит одна конкретная ремарка об универсальной педагогике: блестящий трактат о том, как сама мысль — интеллект как таковой — повсюду в цепях, связанная образовательными формами, институционально неспособными освободить его духовный (geistig) потенциал.
Текст образует в некотором роде нить вокруг развития игрушечного AGI, аватара по имени Канзи, и его индукции в детство (концепт, имеющий интеллект низкой степени) через самосознание, формирование языка, речевые акты и взаимодействие. Такие темы, как пространственно-временные приоры (priors), изображение и синтаксис, представление и язык, направляются по пути, иллюстрируемому схемами с участием автоматона Канзи и его любящих взрослых опекунов. Ключевые дуальности, такие как структура и бытие, теория и объект, интеллект и интеллигибельность рассматриваются через эти линзы игрушечной философии.
Дух (Geist) представлен как общий интеллект, встроенный в собственную историю, а его формальная автономия является субстанцией коллективного труда, осуществляемого взаимодействующими агентами, оснащёнными языком. Самосознание Духа, конкретизируемое через структурирующие способности разума, рассматривается как проводник не только агентности (agency), но и самой свободы.
Здесь есть и следы метафизики — интеллект захватывает «нигде и никогда», а его мимолетные проявления для нас намекают на атемпоральную и атопическую логику. Язык, как сфера интеллигибельного, представлен внутренне вычислительным процессом синтаксического структурирования и семантического восхождения. Это приводит к форме трансцендентального компьютационализма (transcendental computationalism), которую для читателей будет трудно согласовать с политикой эмансипации, — с позицией, которую I&S решительно отстаивает повсюду.
Акцент на интеракции (interaction) в семантике ставит I&S в тесную близость к [деятельности] позднего Патнэма, чьё представление о социо-функционализмепосеяло семена идей Негарестани, в то время как фокус на нормативности и прагматизме во многом перекликается с деятельностью Брэндома.
В то время как Негарестани поддерживает сильную преемственность с этими позициями, текст предпринимает попытку нового слияния нейронного материализма с семантическим инференциализмом Питтсбургской школы, прокладывая свой собственный путь в этом процессе и совершая решительные разрывы с обоими лагерями.
Книга предлагает содержательный контраст с одной из таких нейронных моделей — предиктивной обработкой [predictive processing, далее PP], главенствующей современной теорией разума, которая помещает сознание в вероятностную байесовскую рамку. Там, где PP точно следует экспериментальным данным, отражает методы в ИИ и связан с индуктивной логикой, I&S подчёркивает разумность, логический вывод и формальную автономию языка — но и то, и другое сосредотачивает роль обобщающих моделей.
I&S посвящает целый раздел пределам индуктивизма и «мифу данного» (Селларс), но тем не менее РР убедительно высказывается о восприятии как о форме минимизации ошибок в предиктивной модели, учитывающей когнитивную эффективность, которая подтверждается экспериментальными данными. Говоря о процессе рассуждения, I&S предлагает многоуровневый отчёт о выводе, который несовместим с тем, что предлагается иерархией байесовских приоров, однако в обоих отчётах есть проблемы, которые вызывают значительные спекуляции.
Они также различны на уровне философского проекта и сопутствующих политических подтекстов — один занят постулированием обобщённой формы интеллекта во всей его социальности, в то время как другой заботится [вопросом] моделирования познания индивидуальных человеческих умов. Синтезис различных семейств когнитивных моделей, символических и индуктивных, социальных и индивидуальных, долгое время составлял главный исследовательский вопрос [в области] искусственного интеллекта.
Позиции Негарестани с трудом укладываются в манеру, которую мы можем ожидать от строго аналитического философа, но общая картина начинает вырисовываться ближе к последней трети книги. Текст с пониманием относится к синтаксической традиции в логике и лингвистике, придерживается метатеоретических основ, унаследованных от немецкого идеализма, сохраняя при этом широко рационалистические позиции по темам репрезентации и языка, разума и мира.
[В книге] присутствуют явные отступления от селларсианского объяснения апперцептивного мышления, а именно: отношения между дедуктивными правилами и закономерностями, управляемыми шаблонами; разница между логическими и материальными правилами, а также точная природа представления как не-концептуального обозначения.
Эти [отклонения] получают более вычислительную обработку, концентрируясь на синтаксическом структурировании посредством рекурсивного встраивания, в попытке вырваться из «кантовской смирительной рубашки», а именно — из подчинения логического порядка чувственной интуиции.
Автономия формы, постулируемая в работе Дютиль Новаэс (Dutilh Novaes), расширяется до более широкого утверждения с серьёзными последствиями для рациональности как таковой. Нить [повествования], связанная с вычислениями, остается нетронутой по причине появления всё более серьёзных вызовов интеллекту и его автономии.
Вместо того, чтобы признать поражение и дать дорогу критике вычислимости, I&S берётся за задачу разработки параллельного отчёта об интеллекте и вычислениях, встраивая их обоих в своё представление разума в качестве распознающей способности.
До тех пор пока отчёт не будет полностью разработан, читателя просят отложить [свой] вердикт; книга же явно демонстрирует [свою] чувствительность к обилию вычислительных ловушек. Она бросает свои собственные вызовы индуктивизму, [теории] сверхинтеллекта, пан-вычислениям и теории игр на этом пути, постоянно занимаясь дефляцией утверждений, страдающих от разных догм, — будь они гуманистическими, байесовскими или дарвинистскими по происхождению.
Глубокое брэндомианское влияние текста смягчается отвращением к философскому квиентизму Питтсбургской школы. Здесь мы имеем дело не с [той] философией, что «стремится оставить всё как есть» (Макдауэлл), но с той, которая угрожает вырваться из своего человеческого носителя, с философией в качестве ксенотропного агента мысли, истинной целью которого является не что иное, как прокладывание себе пути к ближайшемувыходу.
Вести интеллект по тускло освещенным аллеям нашего собственного разума, освобождать его от ошибок и предубеждений, навязанных ему нашими собственными «естественными» языками, помогать ему избегать различных ловушек и тупиков, которые мы невольно ставим на его пути, — вот в чём заключается политическая задача, поставленная философией разума, которую Негарестани называет «делом ингуманизма». Книга является сопровождающим вектором для этого путешествия, равной частью руководства, эксперимента и схемы — не чем иным, как руководством по предыстории интеллекта.
Другим ключевым агентом этой книги является Карнап, проявляющийся в конструктивном подходе к языку и в стремлении к логическому формализму. Эта диспозиция лучше всего проявляется при описании интеракции и семантики — самый новый вклад книги. I&S откладывает убедительный синтез дискурсов до заключительных глав, в которых представлен формальный отчёт об языке как вычислении, который объединяет разрозненные нити исследований в логике, информатике и математике.
Логика Лудики (logic of Ludics) Жирара вводится в сферу интеракционистских парадигм в информатике, в то время как соответствие между доказательствами и программами принимается для выдвижения конструктивной теории смысла. Имманентное развертывание семантики из синтаксических структур оказывается открытой диалогической игрой, а интеракция выдвигается на первый план в качестве собственно формального условия разума.
Бросая вызов как и принятой ортодоксии Тьюринга, а именно — [принятию того], что вычисление является логически замкнутой системой, возникающей между вводом и выводом, так и учению Брэндома о социальности, данный раздел указывает на несколько возможных новых путей исследований.
Текст не лишён своих слепых зон. Неразрешимость не получает должной трактовки, достойной позиции вычислителя, в то время как утверждения, лишённые нюансов Брэндома, о логической основе вызовут скептицизм у читателей, не убежденных рассказом Карнапа. В отличие от ПО [Предиктивная Обработка, англ.: predictive processing], последние достижения когнитивистики [в книге] недооцениваются. [Работа] призывает к деколонизации мысли, но проваливается [в попытках вести диалог с] ключевыми мыслителями ингуманистического, такими как Винтер (Wynter) или Фанон (Fanon).
Универсальный характер проекта [даёт пространство для] его материалистической критики на предмет практик, которые вмешиваются в реализацию «равенства всех умов». Широкий охват проекта означает, что обширные темы: от теории категорий до пластичности, — сведены к сноскам или отступам.
Как произведение спекулятивной философии, работа [Негарестани] поднимает много открытых вопросов — где заканчивается обобщение? Какие политические остатки можно обнаружить в незначительных телах? Почему интеллект следует рассматривать как добродетель? Как именно возникают нормативные суждения? Эти неразрешенные темы просто свидетельствуют о барочной форме работы — обширном трактате — [при этом] они не умаляют ее призыва к явно вычислительному рационализму (computational rationalism).
Однако вернемся к вопросу появления. Текст появляется в наших руках и на экранах в эпоху вирусной глупости, спонтанного консенсуса и автоматизированной предубеждённости. Апофеоз «кибер-волков» Шатле — этих самозваных государей сетей: от Питера Тиля до Бруно Латура, — знаменует собой гегемонию, в которую погружены все формы мыслящих существ. Обедненное чувство интеллекта, предлагаемое нам современным ИИ, в сочетании с децентрированием человека во многих смежных дискурсах формирует исторический контекст появления книги.
I&S озадачивает нас новыми способами мышления интеллекта — рассмотреть, как формализмы порождают свою собственную автономию, как язык неразрывно связан с вычислениями, как интеракция соединяет синтаксис и семантику и, наконец, как самость и обучение, агентность и свобода могут культивироваться в этой среде. Работа бросает вызов читателю: представить себе эмансипационный потенциал ингуманистического объяснения интеллекта, реализованного с помощью новой модели вычислений, порожденной интеракцией.
Она предлагает нам встретиться с вызовом переориентации как вычисления, так и философии на служение этой духовной (geistig) манифестации, трактуемой не в качестве непознаваемой силы или индивидуального действия, а как вектора, рекурсивно приводимого в конкретное бытие только через познавательный труд мышления.

Перевод Дмитрия Моторова
Источник: syg.ma