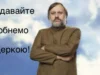Власть — это способность А заставить Б делать то, что Б в ином случае не стал бы делать, говорил Роберт Даль. Власть в тоталитарном государстве осуществляется при помощи открытого насильственного принуждения, в демократическом — при помощи безличных бюрократических процедур, за которыми стоит угроза применения насилия. Дэвид Грэбер исследует, как бюрократия придает насилию налёт цивилизованности и как насилие освобождает людей в положении власти от необходимости ставить себя в положение простых граждан.
Начну с истории о бюрократии.
В 2006 году моя мать перенесла серию микроинсультов. Очень скоро стало ясно, что она не сможет обходиться без посторонней помощи. Поскольку её страховка не покрывала уход на дому, социальные работники посоветовали нам подать заявление на участие в программе Медикейд. Чтобы претендовать на получение помощи в рамках Медикейд, ваши сбережения не должны превышать шести тысяч долларов. Мы уже было подписали все документы, когда у неё случился ещё один, теперь уже более сильный инсульт, и её поместили в лечебницу.
Когда она оправилась от последствий инсульта, потребность в уходе на дому встала вновь. Но была одна проблема: пенсия выдавалась ей на руки, а она была не в состоянии даже поставить подпись. Поэтому я должен был получить доверенность на управление её счетом и оплачивать счета за квартиру, иначе сбережения быстро накопились бы и превысили лимит, позволяющий участвовать в программе.
Я пошёл в банк, взял необходимые формуляры и принёс их в лечебницу. Документы нужно было заверить нотариально. Медсестра сообщила мне, что в лечебнице есть свой нотариус, но я должен записаться на приём. Она подняла трубку и попросила соединить меня с неопознанным лицом, который затем соединил меня с нотариусом. Нотариус сказал, что я должен сначала получить разрешение от главы социальной службы и повесил трубку. Я узнал имя и номер кабинета главы социальной службы, спустился на лифте и постучал в его дверь. Оказалось, что глава социальной службы и был тем неопознанным лицом, перенаправившим меня к нотариусу. Он записал меня на приём на следующую неделю.
На следующей неделе нотариус явился в назначенное время, проводил меня на верхний этаж, проследил, чтобы я заполнил мою часть формуляра и в присутствии моей матери заполнил свою. Я был немного удивлён, что нотариус не попросил мою мать подписать документ, но решил, что ему лучше знать. На следующий день я отнёс документ в банк. Сотрудница банка бросила взгляд на бумагу, спросила меня, почему там нет подписи моей матери, и показала документ управляющему, который сказал мне заполнить его заново.
Я взял новую порцию формуляров, заполнил свою часть и записался на ещё один приём. В указанный день явился нотариус и после нескольких замечаний о том, как трудно иметь дело с банками, отвёл меня на верхний этаж. Я поставил свою подпись, моя мать с трудом поставила свою, и на следующий день я снова отправился в банк. Сотрудница изучила формуляры и спросила, почему я поставил подпись в поле, где нужно указать имя, а свое имя написал в поле, где нужно было расписаться.
Снова появился управляющий и сообщил, что банк не может принять документы в таком виде. Кроме того, даже если бы формуляры были заполнены верно, мне всё равно нужно было получить письмо от врача моей матери, подтверждающее, что она находится в трезвом уме и может подписывать такие документы. Я возразил, что никто не сообщал мне ни о каком письме.
«Что? — воскликнул управляющий. — Кто выдал вам эти формуляры и не сообщил о письме?»
Несколькими неделями позже моя мать умерла.
Я был опустошён. Вдобавок, мне не давало покоя то, что заполнение формуляров сделало меня глупым. Как я мог не заметить, что написал своё имя в поле, обозначенном «подпись»? Я привык считать себя далеко не глупым человеком. И тем не менее я сделал очевидную глупость. И дело было не в невнимательности, ведь я потратил на всю эту бумажную волокиту уйму умственных сил и эмоций. Дело, как я позже осознал, было в том, что я потратил слишком много сил на попытки понять и повлять на людей, имевших надо мной бюрократическую власть, тогда как от меня требовалось лишь правильно прочитать пару слов и выполнить несколько простых задач.
Я был настолько сосредоточен на том, как склонить сотрудников банка на свою сторону и не сорваться на нотариуса из–за его некомпетентности, что упустил из виду их глупые инструкции. Это была ошибочная стратегия. Ведь если кто и имел власть обойти правила, то явно не те люди, с которыми я имел дело. Более того, даже если бы я встретил того, кто имел такую власть, он бы наверняка сказал мне, что из–за моей настойчивости у какого-то рядового сотрудника были бы неприятности.
Как антропологу, вся эта ситуация показалась мне на удивление знакомой. Антропологи привыкли иметь дело с ритуалами, сопровождающими рождение, вступление в брак и смерть, и прочими обрядами перехода. Поскольку люди —социальные существа, рождение и смерть для них всегда больше, чем просто биологическое явление. Требуется немало усилий, чтобы сделать из новорожденного ребёнка человека — то есть того, у кого есть имя, социальный статус, дом и обязанности.
Достигается это преимущественно посредством ритуалов, которые могут подразумевать, помимо прочего: крещение, миропомазание, окуривание, обрезание волос, изоляцию, торжественные речи, производство и сжигание или закапывание ритуальных атрибутов, произнесение заклинаний. Смерть требует ещё более сложных ритуалов, так как приобретённые в течение жизни социальные связи должны быть разорваны. В некоторых случаях человек считается полностью умершим лишь по прошествии нескольких лет и после многократных перезахоронений; сжигания, отбеливания и перемешения костей; и поминок.
В современном обществе ритуалы, как правило, больше не совершаются, а переход осуществляется посредством заполнения документов.
Я хорошо помню полного добродушного служащего похоронного бюро, который помогал мне заполнить четырнадцатистраничный документ, необходимый для получения свидетельства о смерти. «Сколько часов в день вы тратите на заполнение этих формуляров?» — спросил я его. «Я только этим и занимаюсь», — вздохнул он. У него не было выбора. Без этих формуляров ни моя мать, ни один другой кремированный не мог считаться мёртвым с юридической точки зрения.
Почему же не существует многотомных этнографических исследований обрядов перехода в Америке и Британии с длинными главами, посвящёнными заполнению формуляров и прочей бумажной волоките?
Ответ напрашивается сам собой. Бумажная волокита — вещь скучная. Можно описать связанные с ней ритуалы. Можно исследовать отношение людей к ней. Но о самой бумажной волоките особо нечего сказать. Как оформлен формуляр? Какая цветовая гамма выбрана? Почему есть вопросы, касающиеся одних сфер, но не других? Почему нужно указывать место рождения, а не, к примеру, место посещения школы? Почему так важно ставить подпись? Даже у человека с самым богатым воображанием очень скоро заканчиваются идеи.
Документы по определению скучны и однообразны. Более того, они становятся всё однообразнее.
Средневековые грамоты нередко были украшены каллиграфией и геральдическими орнаментами. Отчасти эта традиция сохранилась до XIX века. Свидетельство о рождении моего дела, выданное в 1858 году в Спрингфилде, штат Иллинойс, выглядит довольно красочно, с готическим шрифтом, свитками и маленькими херувимами. При этом свидетельство о рождении моего отца, выданное в Лоренсе, штат Канзас, в 1914 году, одноцветное, никак не украшенное и состоит из одних линий и полей, заполненных, тем не менее, красивым почерком.
В моём собственном свидетельстве о рождении, выданном в 1961 году в Нью-Йорке, нет даже этого: оно напечатано, проштамповано и полностью лишено индивидуальности. Сегодняшние формуляры, созданные на компьютере, ещё более безликие. Неудивительно, что всё это приводит антропологов в отчаяние.
Клиффорд Гирц известен своим «насыщенным описанием» петушиных боев на Бали, в котором он продемонстрировал, что если проанализировать всё, что происходит в одном-единственном поединке, можно узнать о балийской культуре всё: представления о месте человека в мире, общественной иерархии, природе и всех страстях и проблемах человеческой жизни. Подобное попросту невозможно в случае с заявкой на ипотеку.
Кто-то может спросить: разве нет выдающихся романов о бюрократии? Конечно есть. Но эти книги описывают монотонность и идиотизм бюрократии. Читая их, мы чувствуем, будто блуждаем по бесконечному лабиринту. Соответственно, почти все великие книги о бюрократии — это комедии ужасов. «Процесс» Франца Кафки — это классика жанра, но есть и другие шедевры: от «Дневника, найденного в ванне» Станислава Лема, «Дворца сновидений» Исмаэля Кадарэ и «Книги имён» Жозе Сарамаго до «Уловки-22» Джозефа Хеллера и незаконченного романа Дэвида Фостера Уоллеса «Бледный король».
Примечательно, что во всех этих книгах комическая бессмысленность бюрократии сочетается с нотками насилия. При этом современные истории о насилии нередко одновременно являются и историями о бюрократии, так как акты насилия преимущественно либо совершаются в бюрократической среде (армии или тюрьме), либо окружены бюрократическими процедурами (расследования преступлений).
Великие писатели не боятся пустоты. Они смотрит в бездну до тех пор, пока бездна не начинает смотреть на них. Социологи, с другой стороны, терпеть не могут пустоту. Глупость и насилие — это две темы, которыми социология не желает заниматься.
Отсутствие исследований тем более удивительно, что научные сотрудники университетов могли бы многое рассказать об абсурдности бюрократии, ведь они сами всё больше превращаются в бюрократов. «Административные обязанности», посещение совещаний, заполнение формуляров, чтение и написание писем поддержки, исполнение прихотей декана — всё это занимает всё большую долю времени сотрудников университетов.
Но даже когда административные обязанности начинают составлять большую часть реальных обязанностей профессора, они по-прежнему воспринимаются как нечто навязанное сверху. Профессора считают себя учёными, которые исследуют, анализируют и интерпретируют данные, даже если на деле их учёные души заключены в телах бюрократов.
Причина такого положения дел в университетах — роль, которую сыграли в американской социологии послевоенного периода немецкий социолог Макс Вебер и французский философ Мишель Фуко. Оба приобрели в США влияние, которого у них никогда не было дома. Само собой, отчасти причиной их популярности было то, что их теории можно рассматривать как антимарксистские. Но мне кажется, что не менее важную роль сыграл и их взгляд на бюрократию. Складывается впечатление, что они были единственными образованными людьми в XX веке, искренне верившими в то, что сила бюрократии кроется в её эффективности.
Но данное эссе не только о бюрократии, а и о насилии. Мой тезис заключается в том, что ситуации, порождённые насилием — в особенности, структурным насилием, под которым я подразумеваю неравенство, подкреплённое угрозой физической расправы — неизбежно порождают сознательное безразличие, являющееся неотъемлемой частью бюрократических процедур.
Дело не столько в том, что бюрократические процедуры глупы, сколько в том, что они служат для управления ситуациями, которые сами по себе глупы, так как основаны на структурном насилии.
Я признаю, что говорить о насилии в таком контексте может показаться странным. Мы не привыкли связывать дома престарелых, банки и медицинские учреждения с насилием — разве что в абстрактном и метафорическом смысле. Но я говорю о насилии не в абстрактном и отвлечённом, а в самом что ни на есть буквальном смысле — например, об избиении человека палкой. Все вышеупомянутые учреждения участвуют в распределении ресурсов в рамках системы, основанной на угрозе применения силы. Под «силой» в данном случае подразумеваеся власть вызвать одетых в униформу людей, готовых пригрозить другим людям избиением палками.
Поразительно, насколько редко жители развитых демократических стран вспоминают об этом факте. Студенты целыми днями сидят в университетских библиотеках, корпея над вдохновлёнными Фуко трактатами о снижении роли принуждения в современной жизни, при этом полностью забывая о том, что если бы они попытались попасть в библиотеку без соответствующим образом проштампованного пропуска, тут же появились бы вооружённые люди и силой выпроводили бы их вон.
Чем больше аспектов нашей повседневной жизни оказывается подчинено бюрократическим процедурам, тем больше люди предпочитают замалчивать тот факт (совершенно очевидный для тех, кто управляет системой), что в конечном счёте все держится на угрозе физического насилия.
Таким образом, всё сводится к вопросу о государстве и бюрократических структурах, посредством которых осуществляется его власть. Является ли монополия государства на насилие проблемой или решением? Является ли практика устанавливать правила и угрожать всем, кто им не подчиняется, физическим насилием предостудительной, или же власти просто неподобающим образом используют эти угрозы?
Там, где современные административные методы управления были навязаны извне, люди остро осознают, что система держится на насилии. Как следствие, никому из них и в голову не пришло бы отрицать, что государство основано на принуждении, даже несмотря на то, что они с готовностью признают благотворное влияние государства в определённых аспектах.
Следы взаимосвязи между принуждением и абсудностью видны даже в языке. Большинство разговорных выражений, означающих бюрократическую глупость — СНПБ (ситуация нормальная: полный бардак), «уловка-22» и тому подобные — были позаимствованы из военного жаргона. Политологи давно обнаружили обратную зависимость между принуждением и количеством информации: тогда как в относительно демократических режимах обычно существует избыток информации из–за того, что граждане бомбардируют власти жалобами и требованиями, в авторитарных и репрессивных режимах у граждан нет причин что-либо сообщать властям, поэтому такие режимы вынуждены полагаться на шпионов, службы разведки и тайную полицию.
Именно потому, что насилие позволяет принимать произвольные односторонние решения, тем самым избегая дискуссий, свойственных более эгалитарным сообществам, его жертвы воспринимают основанные на насилии процедуры как бессмысленные и глупые.
Большинство из нас способно составить приблизительное представление о том, что думают или чувствуют окружающие, на основании тона их голоса и мимики. Повседневное взаимодействие между людьми во многом состоит из попыток понять мотивы и точки зрения других. Это можно назвать «интерпретационной деятельностью». Тем же, кто полагается на угрозы применения физического насилия, нет необходиости заниматься интерпретационной деятельностью. Вот они ей и не занимаются.
Когда антропологи обращают свой взор на предмет насилия, они как правило концентрируются на противоположном акте, а именно коммуникативном. Верно ли, что акты насилия также являются коммуникативными актами? Конечно. Но то же самое верно и в отношении любой другой деятельности человека. Отличительной особенностью насилия является то, что это возможно единственный вид взаимодействия, который имеет последствия для окружающих даже тогда, когда не несёт коммуникативной нагрузки.
Насилие — это единственный способ предсказуемым образом повлиять на поведение другого человека, о котором мы ничего не знаем.
В любой другой ситуации, чтобы повлиять на поведение человека, необходимо хоть что-нибудь знать о нём самом, его интересах и предпочтениях. Но стоит с достаточной силой ударить его палкой, и всё это перестает играть роль.
Большинство разновидностей отношений между людьми очень сложны. Чтобы поддерживать их, необходимо постоянно использовать воображение и ставить себя на место другого человека (то есть, заниматься интерпретационной деятельностью). Но когда угрожаешь другим физической расправой, нет необходимости прилагать подобные усилия. Это, в свою очередь, делает возможными намного более простые и схематические отношения («если ты переступишь эту черту, я буду стрелять», «ещё одно слово, и ты отправишься за решётку»). Вот почему насилие — излюбленное оружие глупых.
Здесь следует сделать важную оговорку. Всё зависит от баланса сил. Если он примерно равен, то каждая из сторон будет пытаться понять, что на уме у другой. Необходимость в этом отпадает лишь тогда, когда одна из сторон имеет преимущество и способна нанести другой сокрушительный удар.
Это значит, что самая характерная черта насилия, возможность обойти необходимость в интерпретационной деятельности, выходит на первый план тогда, когда само насилие наименее очевидно — более того, когда вероятность применения физического насилия чрезвычайно мала. Речь в первую очередь о ситуациях структурного насилия, то есть системном неравенстве, подкреплённом угрозой применения силы. По этой причине ситуации структурного насилия неизбежно порождают неоднородные проявления идентификации.
В отношениях доминирования и подчинения, именно подчинённые ответственны за осмысление того, как устроены данные отношения. Всем известно, например, что слуги много знают о семьях своих господ, тогда как господа почти никогда не интересуются жизнью своих слуг. Ещё одно важное соображение — явление, которое мы сегодня зовём «усталостью сострадать». Его впервые описал в своей «Теории нравственных чувств» Адам Смит.
Люди, говорил он, имеют естественную склонность идентифицировать себя со своими собратьями и сопереживать горю других. Однако жизнь бедняков настолько убога, что даже самый сострадательный наблюдатель чувствует себя ошеломлённым и, сам того не осознавая, стирает из внимания само их существование.
Люди у подножия социальной лестницы много думают и искренне беспокоятся о судьбах тех, кто находится на вершине, в то время как последние почти никогда не интересуются судьбой первых.
Вернемся теперь к теме бюрократии.
В современных развитых демократических странах законным осуществлением насилия занимаются структуры, эвфемистически называемые «силами правопорядка», в первую очередь полиция. Я говорю «эвфемистически» потому что социологи доказали, что лишь небольшая доля реальных обязанностей полицейских связана с охраной правопорядка. Большая часть их работы — это применение или угрозы применения физической силы для решения административных вопросов. Другими словами, они трятят почти всё свое время на принуждение людей к выполнению бесконечных правил и предписаний о том, где и что разрешено покупать, курить, продавать, строить, есть или пить.
Полиция — это вооруженные бюрократы.
Это очень ловкий ход. Думая о полиции, мы как правило представляем себе людей, борющихся с преступностью. А думая о преступности, представляем себе преступления, связанные с насилием. На деле же полиция занимается как раз обратным — привносит элемент насилия в ситуации, которые не имеют с ним ничего общего.
Когда же физическое насилие имеет место — домашнее насилие, разборки между группировками, пьяные драки — полиция обычно не вмешивается. Однако попробуйте проехаться по городу на машине без номерных знаков, и мгновенно появятся полицейские, вооружённые дубинками, пистолетами и тазерами. Если вы откажитесь им повиноваться, к вам без промедления будет применена физическая сила.
Бюрократия основана на упрощении. Бюрократические процедуры подразумевают игнорирование всех тонкостей реальной жизни и сведение всего к заранее заданным формулам. Формуляры, правила, опросники и статистические данные — всё это примеры упрощения. Как следствие, у тех, кто сталкивается с бюрократическими процедурами, складывается впечатление, что они имеют дело с людьми, которые по какой-то непонятной причине решили надеть очки, позволяющие видеть лишь два процента из того, что находится у них перед глазами.
До тех пор, пока мы оперируем в рамках теории, упрощение — это не всегда признак глупости; совсем наоборот, она может быть признаком ума. Проблемы возникают тогда, когда насилие перестаёт быть метафорой. По словам Джима Купера, бывшего служащего Департамента полиции Лос-Анджелеса, а ныне социолога, подавляющее большинство жертв полицейского насилия не совершили никакого преступления. «Копы не избивают грабителей», — говорит он. Причина проста: насилие со стороны полицейских чаще всего провоцирует неповиновение и сомнение в их праве применять насилие.
Полицейская дубинка — это точка пересечения необходимости в простоте административной системы и монополии государства на принуждение.
Неудивительно, что бюрократическое насилие направлено прежде всего против тех, кто настаивает на альтернативных методах. Если взять за основу данное Жаном Пиаже определение зрелого ума как способности переключаться между разными точками зрения, то можно сказать, что в момент обращения к насилию бюрократическая власть недалека от инфантильной глупости.
Один из главных тезисов этого эссе состоит в том, что структурное насилие порождает неоднородные структуры воображения. Низы напрягают воображение в попытках понять социальную динамику, в том числе взгляды верхов, в то время как последние примущественно не отдают себе отчёта в том, что происходит вокруг них. Другими словами, на плечи низов ложится не только большая часть фактической работы по поддержанию функционирования общества, но и большая часть интерпретационной деятельности.
Так происходит везде, где имеет место системное неравенство. Так было в древней Индии, средневековом Китае и так остаётся сегодня. Однако наша цивилизация содержит дополнительный элемент — бюрократию. Бюрократия — это метод организации глупости и управления отношениями, которые характеризуются неравенством структур воображения, вощникающим в силу структурного насилия. Вот почему бюрократия неизбежно порождает абсурдные ситуации, даже если её создатели руководствуются лучшими побуждениями.
Почему так происходит? Потому в основе даже самой лучшей бюрократии лежит узкий, ограниченный, предвзятый взгляд, свойственный власть имущим. Власть делает людей ленивыми. Власть имущие часто говорят, что власть — это груз ответственности, но на самом деле власть в большинстве случаев означает отсутствие необходимости знать, думать или беспокоиться о чем-либо. А когда делать что-то необязательно, люди как правило этого не делают. Бюрократия позволяет в некоторой мере демократизировать эту власть, но не устраняет её. Власть вырождается в институционализированную леность.
Автор: Roman Schevchuk
©David Graeber
Оригинал можно почитать тут
Источник: Сигма