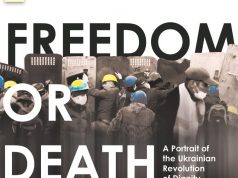EastEast публикует перевод большого интервью с Ашилем Мбембе. В нем камерунский философ дает исчерпывающий обзор истоков и этапов развития постколониальной мысли и размышляет о необходимости изобретения новой политики, основанной на обнажении страдания и отказе от мести. Оригинал интервью на французском языке можно найти на сайте журнала Esprit, его английский перевод доступен на сайте проекта Eurozine.
ESPRIT: Расскажите, пожалуйста, о направлении мысли, которое сегодня принято называть постколониальным. Оно широко представлено в Африке, Великобритании, США и Индии, но в гораздо меньшей степени распространено во Франции. Каковы его основные положения и принципы развития? Чем оно существенно отличается от антизападничества или идеологии третьего мира?
АШИЛЬ МБЕМБЕ: Интеллектуальная конструкция, в англосаксонском мире известная как постколониальные исследования, или постколониальная теория, довольно неоднородна, и потому описать ее особенности в нескольких словах не так-то просто.
Для начала, пожалуй, стоит отметить, что она имеет мало общего с той карикатурой, в которую покаянный хор во Франции превратил идеологию третьего мира. В нашем случае речь идет о философии, формирующейся из нескольких источников; ее сложно называть системой, поскольку она по большому счету непрерывно перестраивается в процессе своего создания. На мой взгляд, говорить о постколониализме как о теории является в некотором смысле преувеличением.
В его основе, с одной стороны, лежат идеи антиколониальной и антиимпериалистической борьбы, с другой — традиции западной философии и европейской гуманитарной мысли, и потому постколониализм не целостен, раздроблен, открыт, и в этом его сила, но одновременно и его слабость. Несмотря на все вышесказанное, мы можем выделить общие модели рассуждения и аргументации, характерные для этого направления, которые представляют собой серьезный вклад в альтернативную интерпретацию современности.
Я настаиваю на необходимости критики не Запада как такового, а скорее последствий слепоты и жестокости, ставших непосредственным результатом концепции колониализма, насилия над идеями разума, гуманизма и универсализма. Эта критика отличается от той, которой в послевоенной Франции были посвящены труды представителей экзистенциалистской, феноменологической и постструктуралистской школ.
Безусловно, в центре внимания постколониализма стоят вопросы самосозидания и самоуправления, однако его перспектива не сводится всецело ни к ницшеанскому положению о «смерти Бога», ни к сартровской идее «человека без Бога», занявшего оставшееся свободным после «мертвого Бога» место, ни к логике Фуко, согласно которой «если Бог мертв, то мертв и человек».
Вместо этого постколониальная философия сосредоточена на двух проблемах. Прежде всего она утверждает, что данная конкретная концепция разума неминуемо приводит к насилию, а также указывает на пропасть, отделяющую в колониальных условиях европейские представления об этике от практических, политических и символических решений.
Так, Эме Сезер в своем эссе Discours sur le Colonialisme («Речь о колониализме») задается вопросом сочетаемости декларируемой веры в человека и безрассудности, с которой тот же самый человек приносит в жертву жизнь, труд и мир значений колонизированных народов.
Колониализм постоянно лжет сам о себе и о других
Кроме того, постколониализм разрабатывает проект грядущего общества, которое должно возникнуть после исчезновения колониалистской системы обесчеловеченных образов и расовых различий. Эта мечта о глобальном братстве, об универсальном социуме очень близка выраженной, скажем, Эрнстом Блохом или Вальтером Беньямином еврейской мысли, если устранить из последней политико-теологический аспект.
Иными словами, постколониальная критика выполняет многоуровневую задачу. Во-первых, — как это делает, например, Эдвард Саид в своей работе «Ориентализм» — она деконструирует колониальный нарратив — мысленную схему, систему представлений и символические формы, обслуживающие инфраструктуру империалистического проекта.
А во-вторых, обнажает возможности исторической фальсификации, находящиеся в распоряжении этого нарратива, — набор функциональных выдумок и неправд, без которых колониализм как историческая модель власти не смог бы состояться. Таким образом, мы изучаем процесс «раздвоения» европейского гуманизма, проявления «двуязычия» и искажения реальности, неотъемлемо присущие колониальной парадигме.
Колониализм постоянно лжет сам о себе и о других. Франц Фанон в книге Peau Noire, Masques Blancs («Черная кожа, белые маски») описывает, каким образом расоизация колонизированных народов становится основной движущей силой этой экономики обмана и двойственности.
Постколониальная философия интерпретирует проблему расы как джунгли гуманизма, как его дикого зверя. И этот зверь, если прибегнуть к терминологии Корнелиуса Касториадиса, которую тот использует, говоря о расизме, заявляет нам приблизительно следующее: «Только я имею значение. Но я не могу иметь значение сам по себе, если и другие сами по себе не имеют значения».
Постколониальная философия стремится разрушить конструкцию, в которую заключен этот зверь, увести его из привычных мест обитания. Грубо говоря, она задается вопросом, что значит жить в режиме зверя, как выглядит такая жизнь и какая смерть следует за ней. Она демонстрирует ту черту европейского колониального гуманизма, которую можно определить как бессознательную ненависть к себе, причем расизм в целом и колониальный расизм в частности является не чем иным, как перенесением этой ненависти к себе на Другого.
Второй аспект постколониальной критики европейского гуманизма и универсализма можно было бы назвать биополитическим, если бы это понятие столь часто не приводило к путанице. Образ Европы, представленный обитателям колонии (и прежде всего плантации в эпоху работорговли) и постепенно становящийся для них все более и более привычным, был далек от идеала свободы, равенства и братства.
Идол, обнаруженный колонизированными под маской гуманизма и универсализма, не просто слеп и глух, но в первую очередь одержим желанием собственной смерти. Однако поскольку эта смерть всегда происходит посредством других, она является смертью делегированной.
Законы для этого идола не служат установлению справедливости, но применяются в качестве инструмента развязывания, ведения и поддержания войны, а богатство используется по большому счету лишь как средство, позволяющее распоряжаться жизнью и смертью других. Таким образом, можно сказать, что постколониальная философия критикует не власть как таковую, не власть в целом, но силу, неспособную к изменениям.
Здесь мне хотелось бы еще раз сослаться на Фанона, уделявшего большое внимание этой разновидности некрополитической силы, которая, развиваясь с помощью лжи, вырабатывает в себе отвращение к жизни или даже принимает смерть за жизнь и жизнь за смерть в процессе постоянной реверсии, постоянного извращения. Вследствие этого колониальные отношения непрестанно колеблются между желанием эксплуатировать Другого (воспринимающегося как представителя низшей расы) и жаждой его устранения, уничтожения.
Третья важная особенность такой философии — ее сосредоточенность на взаимосвязи и соединении, которыми занимаются постколониальные исследования идентичности и субъективности. В этом смысле постколониализм бросает вызов одной из созданных западной мыслью иллюзий, согласно которой каждый объект постоянно возвращается к самому себе, существуя в неизбежной и неизбывной сингулярности.
Постколониализм же, напротив, заявляет, что идентичность образуется из множественности, из дисперсии, а возвращение к себе возможно лишь в положении между, в зазоре между определенным и лишенным определения, в ходе взаимосозидания. С этой точки зрения колонизация уже не выступает в качестве механического процесса одностороннего доминирования, где находящиеся в подчиненном положении молчат и бездействуют.
Напротив, колонизированный субъект оказывается живым, говорящим, разумным, активным индивидуумом, идентичность которого формируется в результате тройного действия: разрыва, удаления и переписывания себя заново.
К тому же, по мнению самого Ганди, универсализм империалистического проекта объясняется не только лишь насильственным принуждением, но и тем, что многие представители колонизированных обществ, руководствуясь мотивами, которые, как правило, можно понять, сознательно соглашаются участвовать во лжи, кажущейся им по той или иной причине привлекательной.
Идентичность колонизированного, равно как и идентичность колонизатора, рождается в точке совпадения процессов опущения, рассогласования и повторения. Постколониальная философия задается целью изучить описанную мной пространную область двусмысленности и эстетические предпосылки упомянутых взаимопереплетений, а также их неожиданные результаты.
Эта философия во многом все еще основана на принципе, согласно которому знание, не ставящее перед собой задачи изменить мир, не является истинным
Здесь, пожалуй, стоит отметить, что постколониализм не ограничивается критикой гуманизма и европейского универсализма, но ставит перед собой задачу открыть дискуссию о возможности политики схожего, основным условием которой является признание Другого и его отличительных особенностей.
Я считаю, что эта установка на будущее, на непрекращающийся поиск новых границ человеческого, невозможный без признания Другого как полноправного субъекта, является важным аспектом постколониальной философии, часто остающимся без внимания, но при этом ключевым для трудов Фанона, Œuvres Poétiques («Стихотворений») Сенгора, созданных во время его заключения в немецком лагере (Front-Stalag 230), для поздних работ Эдварда Саида или рассуждений Пола Гилроя о возможности комфортной жизни в мире, ставшем мультикультурным, представленных в его недавней книге Postcolonial Melancholia («Постколониальная меланхолия»).
Аналогичные мотивы часто встречаются у представителей афроамериканской мысли, которые, однако, сталкиваются с тяжелой необходимостью принять и переосмыслить наследие рабства и расизма таким образом, чтобы превратить их в орудия сопротивления угнетенных, избегая при этом риска самим попасть в ловушку расоизации, восхваления расы.
Завершая свой ответ, я хотел бы добавить, что постколониальная философия обладает политической силой постольку, поскольку включается в процесс исторической социальной борьбы колонизированных обществ, прежде всего предлагая новую интерпретацию теоретических практик тех движений, которые принято называть освободительными. Можно сказать, что эта философия во многом все еще основана на принципе, согласно которому знание, не ставящее перед собой задачи изменить мир, не является истинным.
Это философия бытия объекта, бытия для себя, образа мысли, преодолевающего диалектику господина и раба, колониста и колонизированного. И несмотря на то, что постколониальными исследованиями сегодня по большей части занимаются англосаксонские академические институты и англоязычные интеллектуалы, не стоит забывать, что это направление в немалой степени вдохновлено трудами, созданными на французском. Я уже вспоминал Фанона, Сезера и Сенгора; не меньшее значение имеют работы Глиссана и иных авторов. Избранные памятники африканской франкофонной мысли стали частью канона постколониальной критики.
Серьезное влияние на постколониальную философию также оказали французские мыслители, занимавшиеся проблемой инаковости, — Мерло-Понти, Сартр, Левинас и другие; ряд ее положений был вдохновлен анализом Фуко, Деррида или даже Лакана. Словом, постколониализм по своему подходу во многом очень близок некоторым течениям французской мысли. Однако парадокс заключается в том, что по причине присущей ей культурной обособленности и нарциссизма своих элит Франция фактически отрезала себя от текущей мировой интеллектуальной жизни.
К сожалению, ситуация выглядит так, будто из критической традиции довоенной Франции, в центре внимания которой находился не только феномен нацизма, но и феномен колониализма, сегодня невозможно сохранить категорически ничего, будто колониальные события происходили слишком давно и слишком далеко, и потому в данной области мы не располагаем ничем, что могло бы способствовать пониманию нашей современности, гражданственности, демократии или развития гуманитарных наук. Как следствие, интеллектуальный дискурс Франции преспокойно свелся исключительно к рассуждениям о самой Франции.
Современная французская мысль разучилась говорить о Другом и тем более — с Другим. Она по старой доброй колониальной привычке предпочитает говорить вместо Другого, и выглядит это удручающе: в качестве примера достаточно привести недавние абсурдные дебаты о преимуществах колонизации, проходившие в то самое время, когда на окраинах города бушевали беспорядки.
2012.125.2 / The Pitt Rivers Museum, University of Oxford
ES: Возможно ли определить какую-то связь между глобализацией и постколониализмом?
АМ: Постколониализм во многом является философией глобализации. Изначально он редко оперирует этим термином, однако утверждает отсутствие серьезных разграничений между историей нации и историей империи. Так, представителями одной и той же нации, одной и той же колониальной империи являются и восстанавливающий рабство Наполеон, и активный участник революции прав человека Туссен-Лувертюр.
Постколониальная философия показывает, что колониализм сам по себе носил глобальный характер и сделал многое для универсализации образов, техник и институций (а в случае национального государства — даже товаров в современном смысле этого слова). Она демонстрирует, что процесс универсализации был далеко не односторонним, но, как ни странно, напротив — крайне неопределенным, двойственным.
В атлантическом контексте модель колонии дополняет другую конструкцию власти, а именно — плантацию, ключевую структуру предшествующей эпохи, которую можно назвать эпохой протоглобализации. С точки зрения постколониальной критики разговор о нашей глобальной современности следует начинать с периода задолго до начала XIX века, а именно с того момента, когда в систему коммерческого оборота частной собственности оказалась включена купля-продажа людей, с периода работорговли, характерной чертой которого, впрочем, стала и масштабная миграция, пусть и вынужденная. Период работорговли — это время принудительного смешения народов, созидательного разрыва, в ходе которого и возник креольский мир большой культуры современного города.
Современная африканская мысль — это философия положения между, философия взаимосочетания
Кроме того, с этой эпохой непосредственно связан и опыт глобализации. Книга Пола Гилроя The Black Atlantic («Черная Атлантика»), равно как и историческая монография Питера Лайнбо и Маркуса Редикера The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic («Многоголовая гидра.
Рабы, моряки, простолюдины и тайная история революционной Атлантики»), описывают, как, будучи оторванными от своей страны, крови и почвы, люди учились придумывать и создавать общности, с этой почвой не связанные, покидать зону комфорта, основополагающим для которой был принцип повторения, и изобретать новые формы международной мобилизации и солидарности. Задолго до того, как колонии в XIX веке превратились в большие лаборатории современности, плантации предвосхитили образ нового мирового и культурного сознания.
Помимо вышеупомянутой области истории, есть и теоретические плоскости, в которых пересекаются идеи постколониализма и глобализации. В качестве примера можно привести зарождающийся диалог между постколониальной философией и современной африканской мыслью, прежде всего в США и на Карибских островах. Современная африканская мысль — это философия положения между, философия взаимосочетания. Она утверждает, что мы можем предъявлять требования к окружающему лишь в том случае, если, в силу обстоятельств, действуем рядом с другими, вместе с другими.
В этих условиях «вернуться к себе» — значит в первую очередь «уйти от себя», уйти от темноты своей идентичности, от недостатков своего ограниченного мирка. Таким образом, в данном случае мы имеем дело с интерпретацией глобализации, сводящейся к радикальному утверждению важности тесной близости, смещения или даже удаления.
Иными словами, сознание большого мира рождается в результате актуализации уже заложенного в нас потенциала, происходящей благодаря нашим столкновениям с жизнями других, чувству ответственности за людей и общества, кажущиеся нам далекими, и в первую очередь за тех, с кем мы, как нам представляется, никак не связаны, — за чужих.
ES: До какой степени историко-политическая ситуация влияет на развитие постколониальной философии? Ведь уже сам факт, что это направление мысли возникло после провала проекта постколониального национального государства, трудно считать случайным. Можно ли сказать, что основной проблемой сегодня является восстановление политической сферы?
АМ: Этот вопрос требует долгого и подробного ответа. В развитии постколониальной философии я выделяю три ключевых момента. Свое начало она берет в эпоху антиколониальной борьбы, которой предшествовали и которую сопровождали непрерывная рефлексия колонизированных субъектов, фиксирование противоречий, следующих из их двойного положения («аборигенов» и в то же время «подданных» империи), осмысление движущих сил, позволяющих противостоять колониальной иерархии, а также анализ отношений между факторами, которые можно определить как «классовые» и «расовые».
Дискурс этой эпохи был сосредоточен вокруг так называемой политики автономии — то есть, пользуясь терминами Венсана Декомба, вокруг возможности «сказать я», «действовать самостоятельно», наделить самого себя гражданской инициативой и, таким образом, стать участником мирового процесса. В эти годы Сезером, Фаноном, Сенгором и другими представителями африканской традиции и франкофонной диаспоры, среди которых мы найдем как писателей, так и активистов (профсоюзных деятелей и политических лидеров), был написан ряд текстов, вошедших в канон постколониальной мысли.
Вторым важным для постколониальной философии этапом, на мой взгляд, стоит считать 1980-е годы — годы зарождения «высокой герменевтики», «высокой теории» и публикации главного труда Эдварда Саида — «Ориентализм», расширенные и дополненные положения которого позже легли в основу книг The World, the Text, and the Critic («Мир, текст, критика») и «Культура и империализм». Саид, апатрид из Палестины, по сути, заложил основы направления, со временем превратившегося в «постколониальную теорию» и сегодня ставшего полноправной альтернативной формой познания современности и академической дисциплиной.
Одной из принципиальных идей Саида была идущая вразрез с марксистской доксой идея, что колониальный проект не сводится к простому военно-экономическому устройству, но поддерживается в том числе дискурсивной инфраструктурой, экономикой символов и целым аппаратом знания, насильственный характер которого мы можем постичь разумом в той же мере, в какой можем ощутить его физически.
Культурологический анализ этой дискурсивной инфраструктуры, или колониальной системы образов, и стал впоследствии центральным объектом для постколониальной философии, вызвав серьезную критику со стороны представителей марксистской и интернационалистской школ, каковую мы можем встретить, например, в книге Айджаза Ахмада In Theory: Classes, Nations, Literatures Cultural Studies («С точки зрения теории: классы, нации, литературы»), в сборнике эссе Чандры Талпад Моханти Third World Women and the Politics of Feminism («Женщины третьего мира и политика феминизма») или в работах Бениты Пэрри.
Колониализм — в первую очередь психологическое явление; следовательно, антиколониальная борьба — борьба одновременно материальная и умственная
В те же годы поднятую Саидом проблематику расширили и углубили три автора индийского происхождения. Ашиш Нанди в своем труде The Intimate Enemy («Близкий враг») выдвинул тезис о том, что колониализм — в первую очередь психологическое явление; следовательно, антиколониальная борьба — борьба одновременно материальная и умственная (mental war), и потому противостояние колониализму и неизбежно приходящий ему на смену национализм вынуждены разворачиваться в заранее определенных Западом рамках.
Кроме того, Нанди первым познакомил Индию с идеями Франца Фанона, ввел в постколониальный дискурс теорию психоанализа и инициировал диалог между философией постколониализма и диалектикой Просвещения Адорно и Хоркхаймера. Важное место занимает Гаятри Чакраворти Спивак, университетский профессор, переводчица «Грамматологии» Жака Деррида на английский, автор классического текста «Могут ли угнетенные говорить?» и книги эссе Critique of Postcolonial Reason(«Критика постколониального разума»).
Непредставим постколониализм и без Хоми Бабы, известного не только своей работой The Location of Culture(«Местонахождение культуры») и составленной им коллективной монографией Nation and Narration («Нация и наррация»), но и комментариями к произведениям Фанона.
Более того, в 1980–1990-е годы началось установление связей между постколониализмом и рядом специфических интеллектуальных направлений. Я хотел бы привести два примера таких направлений, выделяющиеся тем, что они дают историческое обоснование выводам, ранее основывавшимся прежде всего на разборе литературных произведений.
Во-первых, это исследования подчиненных субъектов(subaltern studies) — историографическое течение, возникшее в Индии и анализирующее националистический и антиколониальный подходы к истории, ставя при этом перед собой задачу вернуть исторические возможности и голоса отверженным в процессе деколонизации (крестьянам, женщинам, неприкасаемым, подчиненным, угнетенным, оказавшимся на обочине жизни) и опираясь на частично пересмотренные и по-новому интерпретированные марксистские принципы. Показательной в этом смысле является, например, книга Дипеша Чакрабарти Provincializing Europe («Провинциализация Европы»).
Главные герои этого направления — «лишенные голоса и власти», и потому неудивительно, что теоретические основы исследований подчиненных субъектов во многом вдохновлены трудами Антонио Грамши, однако в данном случае цель «перевода» Маркса на неевропейские языки в неевропейском контексте заключается в том, чтобы понять, почему в Индии постколониальная борьба привела не к радикальной трансформации социума, но к своего рода «пассивной революции», характеризующейся возвратом к «общинности» — то есть по большому счету к антинационалистической модели.
III C 25540 / Ethnologisches Museum der Staatlichen Museen zu Berlin
2013.123.10 / Yale University Art Gallery
Второе направление, о котором мне хотелось бы сказать, — это современная африканская мысль, сосредоточенная на изучении многонационального региона Атлантического океана (ее образец — «Черная Атлантика» Пола Гилроя). Основные представители этого течения — американцы, британцы и жители Карибских островов африканского происхождения, переписывающие множество историй современности с перспективы столкновения расовых и классовых факторов; кроме того, они уделяют внимание вопросам диаспор и проблематике процедур, в результате которых человек может быть определен в унизительную социальную категорию, лишен возможности получить статус субъекта истории — и прежде всего заключен в рамки расы.
Здесь уместно вспомнить афроамериканского философа Уильяма Эдуарда Беркхардта Дюбуа, который в своей книге The Souls of Black Folk («Души черного народа») предложил, пожалуй, лучший анализ явления, названного им «темной вуалью цветных», носить которую были обречены живущие в Новом Свете потомки африканцев: такая «вуаль» не только скрывала лицо человека, но и препятствовала его узнаванию, пониманию, превращая в жертву «двойного сознания».
Помимо этого, в современной африканской мысли отводится особое место теме «освобождения духа» и воспоминаниям об условиях рабства (зафиксированным главным образом в религии, музыке и сценическом искусстве), проблематике дисперсии (общностей), а также феномену, который Глиссан обозначает термином «поэтика отношений»; центральная роль при этом уделяется художественному и эстетическому опыту.
Так, повествуя о «старых загадочных песнях рабов, посредством которых душа чернокожего невольника обращалась к окружающим», Дюбуа подчеркивает, что «тот, кто в далеком прошлом блуждал в темноте, пел печальные песни, поскольку его сердце было преисполнено печали». Мотив черной музыки также встречается в текстах Пола Гилроя, посвященных джазу и регги.
Постколониальная философия сегодня — это интеллектуальная конструкция, сила и слабость которой заключаются в ее неоднородности
Как уже было сказано, постколониальная философия сегодня — это интеллектуальная конструкция, сила и слабость которой заключаются в ее неоднородности. Ее можно сравнить с рекой, в которую впадает несколько притоков, поскольку она формируется в результате трансфера знания с одного континента на другой, из одной антиимпериалистической традиции в другую.
Влияние постколониализма в англосаксонской академической среде обусловлено не только его радикальным эклектизмом, но скорее тем фактом, что ему удалось сместить фокус внимания гуманитарных наук. Его культурный и эпистемологический плюрализм, антисистемный синкретизм, творческий синтез, гибридные методы и даже в целом разумные и вдохновляющие ошибки сделали возможной постановку совершенно новых вопросов и появление нового знания в самом сердце интеллектуальной жизни.
Третья фаза развития постколониализма напрямую связана с главным событием нашей эпохи — глобализацией, повсеместной экспансией рынка и усилением его контроля над природными ресурсами, продуктами человеческого труда и миром всего живого. По моему мнению, в условиях сегодняшнего дня литературное произведение больше не может оставаться единственным объектом исследования; при этом критика современных форм инструментализации жизни станет более радикальной, если приступит к серьезному рассмотрению таких старых и вместе с тем недавних форм капитализма, как рабство и колонизация.
В действительности мы видим, с каким упорством колониальный капитализм отказывался юридически признать сферу жизни как границу осуществления экономических операций. Рабство являлось моделью производства, оборота и распределения капитала, возникшей вследствие нежелания официально провозглашать наличие областей, где механизм купли-продажи был бы невозможен. Таким образом, «плантация», «фабрика» и «колония» стали важнейшими экспериментальными лабораториями, в которых возникал авторитарный мир, наблюдаемый нами сегодня.
ES: Можно ли сказать, что постколониальная эпоха принесла не только надежду на избавление от обесчеловеченного мира — со всеми вытекающими для него как для религии последствиями, — но и необходимость вновь открыть, вновь изобрести себя?
АМ: Да, я считаю его в той же степени периодом завершения, в какой и периодом переизобретения, где в первую очередь мы должны переизобрести объект, пострадавший в наибольшей степени, а именно — тело. Ведь речь идет и о периоде новой борьбы: в условиях крайней бедности, радикальной расоизации и постоянного присутствия смерти тело оказывается затронутым первым, оно первым попадает под удар. Еще Фанон делал на этом акцент в молитве, завершающей его первую книгу «Черная кожа, белые маски»: «О, мое тело, позволь мне всегда оставаться тем, кто задает вопросы!»
Процесс переизобретения политики в постколониальных условиях должен начаться с отказа от логики мести
Однако, как показали события, последовавшие за отменой апартеида в Южной Африке, мы не можем заниматься переизобретением чего-либо, будучи неспособны устремить свой взгляд одновременно в прошлое и в будущее, ибо если история, начавшаяся кровью, завершится кровью, шансы обновить мир, вдохнуть в него новую жизнь слабеют под незримым гнетом ужасов прошлого. Иными словами, у нас вряд ли получится что-то переизобрести, если мы будем попросту применять против других насилие, жертвой которого когда-то были сами.
«Хорошее насилие» никогда автоматически не приходит на смену «плохому», не оправдывается и не легитимизируется последним. Любое насилие — как «хорошее», так и «плохое» — всегда ведет к разрыву. Процесс переизобретения политики в постколониальных условиях должен начаться с отказа от логики мести — и прежде всего той разновидности мести, которая маскируется под закон и справедливость.
Борьба против бесчеловечного порядка вещей невозможна без того, что я называю поэтической продуктивностью священного. В конце концов, что представляет собой Африка без священного? Здесь под священным я подразумеваю воображаемый ресурс в широком смысле слова: не только то, что имеет отношение к божественному, но любое средство, приносящее «оздоровление» и надежду в историческом контексте, где как материальные, так и психологические инфраструктуры пронизаны насилием, дискредитирующим Другого и утверждающим его ничтожество.
Именно этот дискурс ничтожества (нередко интериоризированный) проблематизируется посредством ряда форм священного, и основная цель его проблематизации — заставить тех, кто был поставлен на колени, «встать и пойти». В этой ситуации главная интересующая нас задача имеет философский, политический и этический характер и заключается в том, чтобы определить, каким образом мы можем способствовать «подъему человечности», в результате которого должен возникнуть диалог между людьми, призванный заместить иерархические отношения, где человек отдает приказы подчиненному ему объекту.
AM-535-8, AM-484-1 / Nationaal Museum van Wereldculturen
ES: Упоминая о способности быть собой, сказать «я», «встать и идти», вы имеете в виду индивидуума или же группу людей, коллективное тело?
АМ: И то и то. Я говорю о необходимости вновь научиться воспринимать себя самого как универсальный источник смысла. Колониализм нанес ущерб как отдельным людям, так и сообществам. В ходе освободительной борьбы на первый план всегда выдвигались личности, репрезентирующие определенную социальную группу и при этом способные держать руку на пульсе времени, чувствовать дух эпохи настолько хорошо, чтобы в нужный момент от лица своего сообщества и в его интересах сказать: «Сейчас».
Эти личности следят за небом в ожидании первых лучей солнца, чтобы повести своих людей к свету. Такими были Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела или Махатма Ганди — герои, революционный аскетизм которых начинался с преображения самих себя.
Уже упомянутый пример Южной Африки демонстрирует, что призыв «встать и идти» относится ко всем: в равной мере к вчерашним угнетенным и их угнетателям. Вера, что ради восстановления отношений взаимности достаточно убить колонизатора и занять его место, приводит нас лишь к ложному освобождению. События в ЮАР заставляют нас заключить, что политика мести — это всего-навсего воплощение комплекса Каина.
Мы не можем представить, что находится по ту сторону разрушения и ресентимента, не задав себе предварительно тяжелых вопросов: «Что делает человека моим врагом? Кто является моим ближним? И каким образом я должен действовать по отношению к каждому из них?» Однако стремление к примирению не может само по себе вытеснить радикальные требования справедливости. Тем, кто еще совсем недавно, сгибаясь под игом колонизаторов, находился на коленях, справедливость нужна для того, чтобы «встать и пойти», и потому ее восстановление неизбежно.
ES: Что, по вашему мнению, мы можем почерпнуть из опыта южноафриканской Truth and Reconciliation Commission («Комиссии правды и примирения»)?
АМ:Она выбрала верный путь решения имеющихся проблем. Я не утверждаю, что она выполнила все поставленные перед собой задачи, однако необходимость избавить цветное и белое население страны от зашоренного «собачьего», «свиного», стадного, подлого образа мысли, присущего расизму в целом, была очевидной. Основной идеей Комиссии правды и примирения было освобождение от ненависти к себе и ненависти к Другому. Несколько веков расизма привели всех нас к узкому входу в могилу. У этого входа мы провели немало времени, но теперь пришла пора найти в себе силы подняться и вернуться к жизни.
Тотемизация собственного жертвенного положения в мировой истории, к сожалению, нередко вызывает у того, кто еще недавно был жертвой, жажду крови
Южноафриканский опыт учит нас, что тотемизация собственного жертвенного положения в мировой истории, к сожалению, нередко вызывает у того, кто еще недавно был жертвой, жажду крови — любой крови; крайне редко она оказывается кровью его мучителя и куда чаще принадлежит посторонним людям, не имеющим отношения к конфликту. Поскольку тотем не может существовать без регулярных подношений, новые и новые убийства продолжают совершаться ради его ублажения.
В категориях жертвенной экономики стремление осуществить месть, расплату реализуется в духе древних монотеистических религий: «око за око, зуб за зуб». Поскольку трансцендентное не достигается через смерть того, кто взывает к справедливости, для актуализации священного неизбежно приносится в жертву Другой.
Описанную картину мира и стремилась изменить Комиссия правды и примирения — этим южноафриканский опыт существенно отличается от опыта, скажем, Израиля. Страны и общества, позиционирующие себя в первую очередь как жертвы, часто оказываются исполнены ненависти, неспособны прекратить воспроизведение кровавых жертвоприношений и применение по отношению к другим той жестокости, которой были некогда подвергнуты сами.
ES: Можем ли мы, рассматривая проблему памяти жертв, выделить черты, характерные для исторического дискурса чернокожих, отличающие его, например, от исторического дискурса народов Индии? Или же эти различия размываются в процессе рефлексии?
АМ: Я хотел бы начать с общей констатации потребности определить максимальный уровень такого разделения, высшую точку, на которой крепится «темная вуаль цветных». Сомневаюсь, что жители Южной Африки верят в некую абсолютную нескончаемую скорбь, по сравнению с которой вся остальная скорбь — богохульство, равно как и в то, что, чтобы добиться признания собственного страдания, необходимо отказать в праве на существование страданию других, полностью лишить его человеческого содержания.
Проблема памяти в Южной Африке не сводится к поиску ответа на вопрос, какое страдание будет сакрализовано, а какое так и останется по большому счету неважным событием в перспективе жизни и смерти, всегда имеющих значение, ибо каждая человеческая жизнь универсальна, равно как и каждая человеческая смерть.
Опыт Комиссии правды и примирения научил нас прежде всего тому, как покончить с зависимостью от воспоминаний о своем собственном страдании — неотъемлемой составляющей картины мира, в центре которой находится жертвоприношение, поскольку если мы не освободимся от этой зависимости, то не сможем вновь научиться говорить на языке человечности и, таким образом, не сможем построить новый мир.
При этом не стоит забывать, что апартеид зиждился на принципах сегрегации белых и цветных (коренных африканцев, индийцев, метисов и т. д.), создания отдельных секций в рамках каждой из выбранных социальных групп, формирования институций и технологий власти, специфических для каждой группы, и реализации сложившегося проекта на географическом пространстве — посредством, с одной стороны, организации бантустанов, с другой — запрета для чернокожих на проживание в городах.
Впрочем, до апартеида, провозглашенного в 1948 году, колониальная идеология и вовсе строилась на утверждении необходимости войны против представителей «низших рас» ради развития «цивилизации». Мы можем вспомнить специфический метод обесчеловечивания чернокожих, часто применявшийся в истории, однако в южноафриканской парадигме «негритюд» объединял как метисов, так и выходцев из Индии: кто не был «белым», становился «чернокожим».
Страдание, некогда причиненное слабым, должно быть обнажено, и правда — вся правда — об этом страдании должна быть высказана
Как уже было сказано, в современной Южно-Африканской Республике память неразрывно связана с событиями прошлого, насыщенного болью и страданием, но вместе с тем — с надеждой, всеми протагонистами сегодняшнего дня воспринимаемой как фундамент для строительства нового, иного будущего. А значит, страдание, некогда причиненное слабым, должно быть обнажено, и правда — вся правда — об этом страдании должна быть высказана; мы должны прекратить скрывать, притеснять и отвергать, и тогда наградой нам будет прощение — общее желание начать все сначала, признать человека в каждом, признать за каждым право жить свободно по установленным законам.
При этом очевидно, что для достижения указанной цели необходимо выполнить ряд серьезных задач, направленных на поддержание памяти: помимо прочего, организовать достойное захоронение останков павших в борьбе и строительство погребальных стел в местах их гибели, провести религиозные (традиционные христианские) обряды, призванные «исцелить» выживших от гнева и от жажды мести, воздвигнуть музеи и парки, посвященные человечеству и человечности, финансировать искусство и, не в последнюю очередь, внедрить политику репараций, призванную компенсировать столетия пренебрежения (создать школы, дороги, больницы, обеспечить доступность чистой воды и электричества, предоставить право голоса каждому избирателю).
Иными словами, работа памяти неразрывно связана с осмыслением трансформации и интериоризации физического уничтожения тех, кто исчез, превратился в пыль. И во многом размышление об этой утрате и о возможностях символического восстановления разрушенного приводит лишь к усилению давящего образа могилы. Однако в этом случае могила символизирует не столько смерть, сколько дополнение к жизни, необходимое для воскрешения мертвых, являющихся частью новой культуры, которая обещает больше никогда не забывать побежденных.
Таким образом, описанный подход одновременно включает в себя и преодолевает проблему особости. Разумеется, он не лишен внутреннего напряжения и противоречий, так как начатый процесс далек от завершения. В качестве примера такого напряжения можно привести предпринимаемые сегодня попытки дерасоизации городских пространств, а также экономики и некоторых институций.
В любом случае в этой парадигме я вижу будущее не за какой-то из разновидностей афроцентризма, но за образом мысли и действия, который называю афрополитизмом — умением быть «африканцем», открытым к разнообразию мира и воспринимаемым вне расового контекста.

99-2-1 / Smithsonian National Museum of African Art
ЕS: В своей книге De la Postcolonie: Essai sur l’imagination Politique dans l’Afrique Contemporaine («О постколонии. Эссе о политическом воображении современной Африки») вы часто упоминаете Камерун. В сегодняшней дискуссии, имеющей место на франкофонном пространстве, можно наблюдать конкуренцию жертв: с одной стороны, чернокожих Западной Африки, с другой — цветных Мартиники и иных островных колоний, причем обе эти группы занимают разные позиции по ряду вопросов и уделяют большое внимание тому, что говорится об их исторической памяти.
АМ: Моя книга содержит большое количество идей, не совпадающих со взглядами многих представителей постколониализма; помимо прочего, я не согласен с привилегированным положением, часто отводящимся вопросам идентичности и различия, или с центральной ролью, которая уделяется теме сопротивления. На мой взгляд, существует определенная разница между «философией постколонии» и «постколониальной философией».
Ключевой вопрос, поднимаемый мной в книге «О постколонии», можно сформулировать так: «Что представляет собой сегодняшний день и что представляем собой мы сегодня?» Где в реальности современной Африки проходят трещины, линии хрупкости, неустойчивости? Как то, что существует, может прекратить свое существование и дать жизнь чему-то новому? Я рассуждаю о точках разрыва и том, что случается с обещанием, перспективой жизни, когда твоим врагом является, собственно, уже не колонизатор, но твой «брат»? Иными словами, именно африканский дискурс общности и братства я и подвергаю критике.
В этом смысле я обращаюсь к феномену памяти лишь постольку, поскольку последняя имеет непосредственное отношение к проблеме ответственности человека перед самим собой и перед своим наследием. Можно сказать, что память — это прежде всего ответственность индивидуума за то, творцом чего он часто не является. Более того, я убежден, что человек в полной мере становится человеком настолько, насколько оказывается способен реагировать на не созданное им, на нечто, с чем он, судя по всему, не имеет ничего общего.
В действительности единственная память, которой мы обладаем, — это набор указаний и требований, которые прошлое сообщает нам, вынуждая одновременно выполнять их и любоваться ими. Прошлое, как мне кажется, обязывает нас нести за него ответственность; выполнение этой задачи и является предназначением всякой памяти.
ЕS: Какую позицию занимает постколониальная философия по отношению к Европе? Можно ли сказать, что речь идет об антиевропейском направлении или же о течении, признающем европейские ценности? Является ли идея децентрализации европейской мысли для постколониальной школы ключевой?
АМ: Постколониализм нельзя считать антиевропейским направлением. Напротив, он стал плодом столкновения Европы с мирами, некогда бывшими ее отдаленными владениями. Демонстрируя примененные возможности кодификации опыта колонии и империи в своих образах и представлениях, дисциплинарных различиях, методах и объектах, он призывает к альтернативной интерпретации нашей общей современности, призывает Европу жить в соответствии с заявленными ею самой принципами, видением будущего и обещаниями — и делать это ответственно.
Если исполнение столь часто провозглашаемых Европой обещаний действительно ставит перед собой цель построения будущего для всего человечества, то постколониализм заставляет ее непрерывно открывать и освежать тему этого будущего таким образом, который предполагает ответственность за себя, ответственность за других и ответственность перед другими.
Однако вместе с тем постколониальная философия — это мечта: мечта о новой форме критического гуманизма, основанного на разделении всего, что отличает нас друг от друга по эту сторону абсолюта. Это мечта о полисе, универсальном вследствие своего социально-этнического разнообразия, к которому устремлял свои надежды еще Сенгор, описывая в своих «Стихотворениях», например в Prière aux Masques («Молитве к маскам»), «возрождение мира». И для того, чтобы эта мечта об универсальном полисе воплотилась в жизнь, мы должны признать за каждым человеком право наследовать мир во всей его полноте.
В основе философии постколонии лежит этика будущего «я», помнящего, что когда-то оно принадлежало кому-то другому
Философия постколонии, напротив, сосредоточена на вопросах жизни и ответственности, рассматриваемых с перспективы, противоречащей им обеим. Она напрямую связана с идеями таких представителей африканской и черной мысли, как, скажем, Фанон, Сенгор, Сезер, а также ряда других авторов.
Это философия ответственности, понимаемой как обязательство отвечать за себя самого, быть гарантом своих собственных действий. В ее основе лежит этика будущего «я», помнящего, что когда-то оно принадлежало кому-то другому, не забывающего о муках рабства в эпоху, когда действие законов не распространялось на субъект, было оторвано от него.
Постколониализм имеет принципиальное значение для самовосприятия Европы. Если бы кто-то сквозь призму постколониальной философии взглянул, например, на Францию, он бы мог обнаружить, что, начиная с периода работорговли и колонизации, французская идентичность и топосы памяти непременно содержат в себе аспекты «там» и «здесь»: «здесь» не может существовать без «там», и наоборот. Нет «внутреннего», оторванного от «внешнего», и нет прошлого, оторванного от настоящего.
Есть время соприкосновения с Другим, которое постоянно развертывается, при этом основной характеристикой является не расщепление, но слияние, стяжение, соединение. Как бы то ни было, постколониализм предоставляет нам географическое пространство и карты объектов, с помощью которых мы сможем по-новому сформулировать и поднять острые вопросы, касающиеся жизни окраин, нации, гражданственности или даже иммиграции.
ЕS: Главная мишень критики идеологии третьего мира — это Соединенные Штаты Америки. Согласны ли с ней представители постколониализма?
АМ: Если не ошибаюсь, основным предметом этой критики является тот факт, что на протяжении продолжительного времени сменяющие друг друга правительства США, утверждая развитие идей универсализма и продвижение демократии, преподносили преступления, лежащие в их основе, как проявления Божьей воли.
В результате образ Бога, представленный в политической теологии американского государства, оказался меланхоличным, вспыльчивым и мстительным. В его законах и заповедях нет места милосердию, он ревнив, злопамятен, одержим разрушением; он постоянно требует человеческих жертв.
Критика политической теологии, лежащей в основе американской политики силы (гипергегемонии), в сегодняшних условиях абсолютно необходима; отмечу, что лучшие образцы этой критики создаются непосредственно в США. Ведь, в самом деле, можем ли мы «сотворить мир», руководствуясь политикой, исходящей исключительно из ответа на вопрос, кто здесь и сейчас является моим врагом и как я могу его уничтожить?
Объект такой критики — не Соединенные Штаты как таковые, но идея политики, идея мира, тесно связанная с нарративом врага как онтологической или даже теологической категории, где мой враг по определению всегда является врагом Бога — ни больше ни меньше, — а ненависть, которую я к нему испытываю, — богоугодной, божественной ненавистью.
Я не думаю, что мы справимся с задачей «создания мира», руководствуясь моделью отношений, где любой моральный идеал регулярно оказывается недействительным, когда под предлогом морали начинают совершаться безнравственные, варварские действия.
Глобальная политика США сегодня стремится избавиться от всех ограничений, избавиться от всякой ответственности во имя безопасности, став, таким образом, политикой ничем не ограниченной безответственности, и она, безусловно, должна постоянно находиться под прицелом жесткой и разумной критики.

Перевод с французского Дмитрия Тимофеева
Источник: Easteast