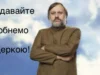Виа Джирауд, вилла Балестра, виа ди Грота Пинта 10, виа дела Пенитенца, виа Беналья 10, виа дель Говерно веккьо 115, виа Аурелиана 21, виа Паоло II 1 (последний).
Вот те адреса, которые я помню, среди многих, где он жил во время скитаний по Риму – слишком многих, чтобы установить табличку, как это следовало бы сделать, например, на виа дель Машероне на доме, где жил Вильгельм Вайблингер, биограф Гёльдерлина: “Здесь, наконец, счастлив”. Потому что Дитер в каком-то смысле всегда был счастлив, независимо от бедности или богатства (когда это случалось), успеха (когда это случалось) или забвения.
У Лауры, дочери, с которой он жил, когда я познакомился с ним, и в течение многих лет после этого, не было игрушек. Однажды, словно желая открыть мне тайну игры жизни и искусства, он сказал мне: “Давай представим, что эта настоящая вода – ненастоящая”.
Из Верхней Баварии он переехал сначала во Флоренцию, а затем, в 1966 году, в Рим, который он никогда не покидал, за исключением периода – во многом решающего – между 1972 и 1974 годами, который он провел с Лаурой на острове Парос. Из всех людей, которых я встречал, он был единственным, кто действительно был римлянином, хотя он никогда не регистрировался для получения вида на жительство или прописки. Его жизнь была живой жизнью, которая по этой причине становилась все дальше и дальше, как в позднем стихотворении Гёльдерлина: “Когда далеко уходит живая жизнь людей…”.
Далеко, в die Ferne, где “природа исполняет образ времени, / так, что оно останавливается и прощается, / и все ради совершенства…”. Далеко – для него, который хотел “представить вещи такими, какие они есть или какими они были бы, если бы меня там не было”, для него, который говорил, что в искусстве единственное время, которое существует, – это отсутствие времени.
Период, проведенный на Паросе, совпал со стремительным появлением цвета, с галлюцинаторными пейзажами, мелькавшими в широко распахнутом окне студии, и, прежде всего, с картиной, которую я не могу забыть: пейзаж почти без неба, только выщербленная красная земля, усыпанная камнями и мхом.
«Высота небес сияет / для человека, как деревья, увенчанные цветами». Так заканчивается стихотворение Гёльдерлина. В Риме это было дерево, стройная, высокая пиния, которая подсказала ему “начало новой манеры”, после первых “туманных картин, которые лишь постепенно приобретали конкретные очертания”.
Краски Пароса постоянно всплывают в его великих римских работах начала 1980-х годов. В экстатической лежащей обнаженной натуре 1981 года я узнаю суровое лицо Беттины, девушки, которая была его моделью и с которой мы часто встречались. В зачарованном и замкнутом Риме тех лет мы встречались почти каждый день в баре Porta Settimiana, где еще была бильярдная, и которого больше нет. Я до сих пор слышу стук шаров во время партий, которые мы разыгрывали по вечерам, прежде чем он возвращался к живописи, а я к письму.

Я познакомился с Дитером благодаря другой господствовавшей над его жизнью страти, наряду с живописью. Весной 1968 года мы сидели с Джиневрой и Эльзой Моранте в баре Navona на полупустынной площади, которую мы выбрали местом встречи, когда к нам подошел высокий молодой человек, элегантный в своем слегка поношенном двубортном пальто, и с какой-то застенчивой беззаботностью спросил Джиневру, не позволит ли она ему поговорить с ней. С тех пор мы стали друзьями и почти что корешами, и я знакомился то с одной, то с другой женщинами из его жизни, то на острове Цирцея, где мы проводили лето, то в Чиминских горах, где в те годы мы жили в одной хижине рядом с хлевом. По ночам слышался стук копыт лошадей и их высокое, резкое ржание.
Живопись – это дело жеста. Рука художника не изображает предметы, а скорее схватывает их форму, “не достигнутую реальность, а реальность, которая должна быть достигнута”. Вот почему жест Дитера одновременно императивен и нюансирован (flou, effacé, пишет Жан Клер). Когда он схватил форму, его рука, кажется, медленно колеблется, пока он постепенно не отпустит ее, пока не позволит ей выскользнуть из пальцев.
Ребенком Дитер был отправлен отцом в мюнхенский Хофкунстанштальт учиться на мозаичиста. «Я боялся провалить тест на цвет, что очень важно для такой работы». Что-то от мозаики сохранилось в его жесте, тщательная фрагментация красок, которая для зрителя с правильного расстояния превращается в бесценную целостность.
Я не думаю, что Дитер придавал слишком большое значение спорам, которые он любил провоцировать. Он, конечно, не получил того признания, которого заслуживал. Однако я считаю, что признание Бальтюса и Жана Клера и скорое принятие его в Академию Святого Луки было для него более чем достаточно. Он уделял бесконечно больше внимания качеству круассанов своего завтрака, чем своей карьере.
Он любил, как и любой настоящий художник, пастель. Берега Тибра на рассвете и в сумерках 2000 года являются вершиной этой техники, где жест упорно пытается ухватить неопределенность, которая сама стремится к ореолу и славе. С конца девяностых годов пастель стала им использоваться и для изображения чаш на клетчатой скатерти, одна из которых сопровождает меня уже много лет и не перестает удивлять: выточенная на станке коричневая чаша выделяется на фоне яркого помпейского красного, а на переднем плане клетчатая скатерть безошибочно обозначает музыкальный контрапункт.

Прощай, Дитер. Но какова бы ни была судьба его работ в нынешние мрачные времена, которые мы переживаем, даже если жалкий архив культуры утратит последнюю память, жест его живописи останется незабываемым. Он требует не того, чтобы его запомнили, а того, чтобы он навсегда остался незабываемым.

Источник: Quodlibet