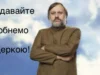Форма, которая содержит собственную истину до и независимо от передаваемого ею содержания, – это то, что Лакан называл “большим Другим”. Скажем, если я обращаюсь к своему партнеру с должным уважением, то уважительная форма устанавливает определенное интерсубъективное отношение, которое сохраняется, даже если мое обращение служит лишь для того, чтобы обмануть партнера.
Большой Другой как таковой является чисто виртуальной идентичностью: в нем нет никакой своей глубинной истины, его истина – это сама его форма. Однако, как настаивает Лакан, «большого Другого не существует», что означает не только то, что большой Другой является виртуальным, не имеющим собственной субстанциональной реальности, но и то, что он сам по себе непоследователен/неполноценен, пронизан пробелами.
Эти пробелы заполняются другой версией большого Другого: призрачным явлением большого Другого как реальной Вещи в облике так называемой Оно-машины, механизма, непосредственно материализующего наши неосознанные фантазии и имеющего длинную, хотя и не всегда респектабельную, родословную.
В кино все началось с фильма Фреда Уилкокса «Запретная планета» (1956), в котором на далекую планету переносится скелет сюжета шекспировской «Бури»: отец живет один со своей дочерью (которая никогда не видела другого человека) на острове, а затем их покой нарушает вторжение экспедиции. В «Запретной планете» безумный ученый-гений живет один со своей дочерью, когда их покой нарушает прибытие группы космических путешественников.
Вскоре начинаются странные нападения невидимого монстра, и в конце фильма становится ясно, что этот монстр – ни что иное, как материализация разрушительных импульсов отца против незваных гостей, нарушивших его кровосмесительный покой. Оно-машина, которая неведомо для отца порождает разрушительного монстра – это гигантский механизм под поверхностью далекой планеты, таинственные остатки какой-то прошлой цивилизации, сумевшей создать такую машину для прямой материализации своих мыслей и тем самым уничтожившей себя…
Здесь Оно-машина прочно вписана во фрейдистский либидинальный контекст: порождаемые ею монстры – это реализация инцестуальных разрушительных импульсов первобытного отца, направленных против других мужчин, которые угрожают его сожительству с дочерью. Другую версию Оно-машины можно обнаружить в «Сфере» (1998) Барри Левинсона.
Но предельной вариацией на тему Оно-машины, пожалуй, является фильм Андрея Тарковского «Солярис» по мотивам одноименного романа Станислава Лема, в котором эта Вещь также связана с тупиком сексуальных отношений (подробнее см. здесь). «Солярис» – это рассказ о психологе по имени Кельвин из космического агентства, отправленного на полузаброшенный космический корабль, который находится на орбите недавно открытой планетой Солярис, где в последнее время происходят странные вещи (ученые сходят с ума, галлюцинируют и кончают самоубийством).
Солярис – планета с океаноподобной текучей поверхностью, которая непрерывно движется и время от времени имитирует узнаваемые формы – не только сложные геометрические структуры, но и гигантские детские тела или дома людей. Хотя все попытки связаться с планетой терпят неудачу, ученые выдвигают гипотезу, что Солярис – это гигантский мозг, который каким-то образом читает наши мысли.

Вскоре после прибытия Кельвин обнаруживает у себя в постели свою мертвую жену Хари, которая много лет назад на Земле покончила с собой после того, как он бросил ее. Он никак не может избавиться от Хари; все терпят неудачу (после того как он отправляет ее в космос на ракете, она рематериализуется на следующий день). Анализ ее тканей показывает, что она не состоит из атомов, как обычные человеческие существа. Ниже определенного микроуровня нет ничего, только пустота. Наконец, Кельвин понимает, что Хари – это материализация его собственных внутренних травматических фантазий.
Это и объясняет загадку странных пробелов в памяти Хари: конечно, она не знает всего, что должен знать настоящий человек, потому что она не такой человек, а всего лишь материализация его фантазматического образа во всей его противоречивости. Проблема в том, что именно потому, что у Хари нет собственной полноценной идентичности, она приобретает статус Реального, которое вечно настаивает на своем и возвращается на свое место. Как огонь в фильмах Линча, она вечно «ходит с героем», прилипает к нему, никогда его не отпускает. Хари, этот хрупкий призрак, чистое подобие, никогда не может быть стерта; она «неживая», вечно повторяющаяся в пространстве между двумя смертями.
Не возвращаемся ли мы таким образом к стандартному вейнингерианскому антифеминистскому представлению о женщине как симптоме мужчины, материализации его вины (его грехопадения) и которая может избавить его (и себя) только самоубийством? Таким образом, «Солярис» принимает правила научной фантастики, чтобы воплотить в самой реальности, представить как материальный факт, представление о том, что женщина лишь материализует мужскую фантазию.
Трагизм положения Хари заключается в том, что она осознает, что лишена какой бы то ни было полноценной идентичности, что она сама по себе – Ничто, поскольку существует только как мечта Другого. Именно это затруднительное положение навязывает ей самоубийство как высший этический акт: осознав, как Кельвин страдает от ее постоянного присутствия, Харей окончательно уничтожает себя, проглотив химическое вещество, которое предотвратит ее рекомпозицию. (Самая страшная сцена фильма происходит, когда призрачная Хари пробуждается после первой неудачной попытки самоубийства на Солярисе.
Проглотив жидкий кислород, она лежит на полу, глубоко застыв; затем, внезапно, она начинает двигаться, ее тело дергается в смеси эротической красоты и ужаса, испытывая невыносимую боль. Есть ли что-нибудь более трагичное, чем такая сцена неудачного самоистязания, когда мы сводимся к непристойной слизи, которая, против нашей воли, сохраняется на картине?).
Вейнингерианское онтологическое сведение женщины до простого «симптома» мужчины – как воплощения мужской фантазии, как истерической имитации истинной мужской субъективности – является, когда открыто признается и полностью принимается, гораздо более подрывным, чем лживое непосредственное утверждение женской автономии. Возможно, высшим феминистским утверждением является открытое провозглашение: «Я не существую сама по себе, я – всего лишь воплощенная фантазия Другого»…
Таким образом, в «Солярисе» мы имеем два самоубийства Хари: первое (ранее в ее земном «реальном» существовании, в качестве жены Кельвина), а затем ее второе самоубийство, героический акт самоизбавления от своего призрачного неживого существования. Если первый суицидальный акт был банальным избавлением от тягот жизни, то второй – это этически правильный акт.
Другими словами, если первая Хари, до своего самоубийства на Земле, была «нормальным» человеком, то вторая – Субъект в самом радикальном смысле этого слова, именно в той мере, в какой она лишена последних остатков своей идентичности (как она говорит в фильме: «Нет, это не я… Это не я… Я не Хари. /…/ Скажи мне… скажи мне… Ты находишь меня отвратительной из-за того, что я такая?»).
Разница между Хари, явившейся Кельвину, и «чудовищной Афродитой», явившейся Гибаряну, одному из коллег Кельвина по космическому кораблю (в романе, но не в фильме: в фильме Тарковский заменил ее маленькой невинной блондинкой), в том, что явление Гибаряну происходит не из «реальной жизни», а из чистой фантазии: «Гигантская негритянка бесшумно приближалась ко мне плавной, вальяжной походкой.
Я уловил блеск белков ее глаз и услышал мягкое шлепанье ее босых ног. На ней была только желтая юбка из плетеной соломы; ее огромные груди свободно раскачивались, а черные руки были толстыми, как бедра». Не выдержав встречи лицом к лицу с явлением своего первобытного фантазма, Гибарян умирает от стыда.
Не является ли планета, вокруг которой разворачивается сюжет, состоящая из загадочной материи, которая, кажется, мыслит, то есть в некотором смысле является прямой материализацией самой Мысли, снова образцовым случаем лакановской Вещи как “Непристойного желе” [1], травматического Реального, точки, в которой символическая дистанция рушится, точки, в которой нет необходимости в речи, в знаках, поскольку в ней мысль непосредственно вмешивается в Реальное?
Этот гигантский Мозг, этот Другой-вещь, включает своего рода психотическое короткое замыкание: замыкая диалектику вопроса и ответа, требования и его удовлетворения, он дает – или, скорее, навязывает нам – ответ еще до того, как мы задаем вопрос, непосредственно материализуя наши сокровенные фантазии, которые поддерживают наше желание.
Солярис – это машина, которая сама генерирует/материализует в реальности мое конечное фантазматическое объектное дополнение/партнера, которого я никогда не буду готов принять в реальности, хотя вся моя психическая жизнь вращается вокруг него.
Жак-Ален Миллер проводит различие между женщиной, которая принимает свое небытие, свое конституирующее отсутствие, то есть пустоту в самом сердце ее субъективности, и тем, что он называет la femme a postiche, поддельной, фальшивой женщиной [2].
Эта femme a postiche – не то, о чем нам говорит здравая консервативная мудрость (женщина, не доверяющая своему природному обаянию и отказывающаяся от своего призвания воспитывать детей, служить мужу, заботиться о домашнем хозяйстве и т.д., предается феерии модной одежды и макияжа, декадентской распущенности, карьеры и т.д.), но почти полная ее противоположность: женщина, которая укрывается от пустоты в самом сердце своей субъективности, от “не-имеющего”, которое маркирует ее существо, в фальшивой уверенности в том, что “имеет это”, что служит устойчивой опорой семейной жизни, воспитывает детей, является ее истинным достоянием и т.д.
Эта женщина производит впечатление (и испытывает ложное удовлетворение от этого) прочного и устойчивого существования, замкнутой на себе жизни, удовлетворенного кругом повседневной жизни: ее мужчина вынужден постоянно вертеться, а она ведет спокойную жизнь и служит надежной защитной скалой или тихой гаванью, куда ее мужчина всегда может вернуться… (Самая элементарная форма “владения” для женщины – это, конечно, рождение ребенка, поэтому для Лакана существует предельный антагонизм между Женщиной и Матерью: в отличие от женщины, которая “не существует“, мать определенно существует).
Интересной особенностью здесь является то, что, вопреки общепринятым ожиданиям, именно женщина, которая “имеет это”, самодовольная femme a postiche, отрекающаяся от своего недостатка, не только не представляет никакой угрозы для патриархальной мужской идентичности, но даже служит ей защитным щитом и опорой, тогда как, в противоположность ей, именно женщина, выставляющая напоказ свой недостаток (“кастрация”), т.е. функционирующая как истеричный композит подобий, покрывающих Пустоту, представляет серьезную угрозу для мужской идентичности.
Другими словами, парадокс заключается в том, что чем больше женщина принижается, сводится к непоследовательной и бессодержательной композиции подобий вокруг Пустоты, тем больше она угрожает полноценной мужской самоидентификации. (Вся книга Отто Вейнингера посвящена этому парадоксу.) И, с другой стороны, чем больше женщина является твердой, самозамкнутой Субстанцией, тем больше она поддерживает мужскую идентичность.
“Солярис” дополняет этот стандартный, пусть и дезавуированный, мужской сценарий ключевой особенностью: эта структура женщины как симптома мужчины может быть действенной лишь постольку, поскольку мужчина сталкивается со своей Другой Вещью, децентрированной непрозрачной машиной, которая “читает” его самые глубокие сны и возвращает их ему в качестве симптома, как его собственное послание в его истинной форме, которое субъект не готов признать.
Именно здесь следует отказаться от юнгианской интерпретации “Соляриса”: суть “Соляриса” не просто в проекции или материализации отвергнутых внутренних импульсов (мужчины) субъекта. Гораздо важнее то, что для того, чтобы эта “проекция” состоялась, непроницаемое Другое уже должна быть в наличии. Истинная загадка заключается в присутствии этой Вещи.
Проблема с “Солярисом” Тарковского заключается в том, что он сам явно предпочитает юнгианскую интерпретацию романа, согласно которой путешествие в космос – это всего лишь экстернализация и/или проекция инициатического путешествия в глубины психики. Говоря о “Солярисе”, он заявил в одном из интервью: “Может быть, в действительности, миссия Кельвина в “Солярисе” имеет только одну цель: показать, что любовь к другому необходима на протяжении всей жизни. Человек без любви – это уже не человек. Цель всего “Соляриса” – показать, что человечество должно быть любовью” [3].
В явном контрасте с этим, роман Лема сосредоточен на инертном внешнем присутствии планеты Солярис, этой “мыслящей вещи” (если воспользоваться выражением Канта, которое здесь полностью подходит). Смысл романа как раз в том, что Солярис остается непроницаемым Другим, лишенным возможности общения с нами.
Правда, он возвращает нам наши самые сокровенные фантазии, но вопрос “Que vuoi?”, лежащий в основе этого акта, остается совершенно непроницаемым. Зачем Оно это делает? В качестве чисто механической реакции? Чтобы играть с нами в бесовские игры? Чтобы помочь нам – или заставить нас – столкнуться с отвергнутой нами истиной?
Нигде этот разрыв между романом и фильмом не ощущается так сильно, как в их разных концовках: в финале романа мы видим Кельвина одного на космическом корабле, вглядывающегося в таинственную поверхность океана Соляриса, в то время как фильм заканчивается архетипической фантазией Тарковского о совмещении в одном кадре Инаковости, в которую брошен герой (хаотичная поверхность Соляриса), и объекта его ностальгической тоски, родной dacha (русского деревянного загородного дома), в которую он жаждет вернуться, дома, контуры которого окружены податливой слизью поверхности Соляриса. В радикальной Инаковости мы обнаруживаем утраченный объект нашей сокровенной тоски.
[1] Формула Тони Хау (Мичиганский университет, Энн-Арбор), на чью превосходную курсовую работу «Солярис и непристойность присутствия» я опираюсь здесь.
[2] См. Miller J.-A. Des semblants dans la relation entre les sexes // La Cause freudienne. 1997. № 36. Р. 7-15.
[3] Из интервью Андрея Тарковского Антуану де Баку, “Cahiers du Cinema”, 1989, p. 108.

Источник: PhilosophicalSalon