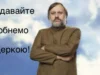Публикация представлена на ресурсе https://syg.ma последнего, пятого эпизода из серии радиобесед Пьера Бурдье с историком Роже Шартье, прозвучавших в эфире станции France Culture в феврале 1988 года. Этот выпуск — о том, чем привлекли социолога Эдуард Мане, Гюстав Флобер, Мартин Хайдеггер и прочие ересиархи.
Роже Шартье: — Мне кажется, в последнее время твоя работа вышла на несколько неожиданную траекторию. Я имею в виду твои исследования о Флобере, Мане и особом моменте в истории эстетического поля, поля литературы и живописи. Не пытаешься ли ты, обращаясь к более благородным и возвышенным темам, оправдаться за то, что традиционно приписывают социологии, которой ты занимаешься — скучные вычисления, сложную статистику? Не ищет ли автор книги о различении, изучавший потребление пищи и самые непритязательные вкусы, в этом обращении к более легитимным предметам возможность вновь легитимировать свою работу? И не уподобляешься ли ты объектам своего анализа, применяя различение уже не в работе, а в выборе предметов?
Пьер Бурдье: — Кто-нибудь обязательно скажет, что это связано со старением и социальным посвящением. Это общий закон эволюции ученых. Старение при этом вовсе не является биологическим феноменом. А посвящение очень часто сопровождается сменой тематики: чем больше ты посвящен в поле, тем больше у тебя планетарных амбиций. Поэтому ученые часто строят параллельную карьеру философов. Но мне кажется, это не мой случай.
К твоему списку можно добавить еще одного ключевого мыслителя — Хайдеггера. Их можно включить в своеобразный шорт-лист, и окажется, что Мане, Флобер и Хайдеггер — это самый выдающийся среди художников, самый выдающийся среди писателей и самый выдающийся среди философов. Как же я пришел к этому? Я думаю, меня привела к этому сама логика моей работы, в частности стремление понять процесс возникновения поля. Флобер и Мане — это люди, стоявшие у основания поля.
Мане бросил вызов миру искусства. Это проблема ересиарха, главы секты, который борется с церковью и противопоставляет ей новый принцип легитимации — новый вкус.
Возьмем красноречивый пример — Мане. Была академическая живопись, государственная живопись, в которой художники-функционеры играли ту же роль, что преподаватели философии — в философии. Эти люди строили карьеру художников, их рекрутировали при помощи конкурсов, они посещали подготовительные классы — совсем как при наборе в престижные вузы, с теми же дедовщиной, нивелированием, деградацией и отбором. А затем появился Мане. За его плечами — те же школы, что очень важно. Это похоже на то, о чем пишет Вебер в своей книге о древнем иудаизме: всегда забывают, что пророк выходит из священников и что ересиарх — это пророк, который говорит на улице то, что обычно говорят в мире ученых. Мане — похожий случай.
Он был учеником Кутюра, полуакадемического художника, и вскоре стал создавать проблемы в его ателье — критиковать, как тот усаживал моделей в античных позах и заставлял их часами изображать Святого Себастьяна при помощи специального устройства. А потом он поступил, как талантливый школьник, который проваливает конкурсные экзамены в Высшую нормальную школу и бросает ей вызов, вместо того, чтобы интернализовать наказание как своего рода проклятие. Мане бросил вызов миру искусства. Это проблема ересиарха, главы секты, который борется с церковью и противопоставляет ей новый принцип легитимации — новый вкус. Поэтому нужно понять, как этот вкус возникает. И какова здесь роль Мане, его капитала, его происхождения, семьи, но особенно его социальных связей, его друзей и т.д.
Я занимаюсь работой, которую странным образом не проделал ни один историк, если не считать совершенно анекдотических случаев. Я стараюсь изучить мир друзей Мане, мир друзей его жены, которая была пианисткой и играла Шумана, в то время считавшегося авангардным. Тем самым я пытаюсь разрешить фундаментальный вопрос. Ведь человек, который выпрыгивает из университета или иной академической институции, совершает прыжок в пустоту. Я упомянул драму талантливого школьника, потому что многим слушателям, пусть даже косвенно, знаком этот опыт. Проблема такого ученика в том, что ему даже в голову не придет оспаривать институцию, которая его отвергла. Но если он подумает об этом, он обнаружит себя брошенным в небытие.
Мане оказался в таком же положении. «Если я не буду заниматься академической живописью, не перестану ли я существовать?». Люди скажут: «Он же не понимает перспективу!». Как доказать, что он ее понимает, но отказывается соблюдать? Чтобы решить все эти проблемы — одиночество ересиарха и тот факт, что нужна большая наглость, чтобы противостоять отлучению, — необходимо понять, какие у Мане были для этого ресурсы. Ресурсы, как иногда говорят, психологические, но на самом деле у них — социальная основа: друзья, артистические связи и т.д. Такой работой я сейчас занимаюсь. Я подбираюсь к самому индивидуальному в индивиде — своеобразию Мане, его отношениям с родителями, друзьями, роли женщин в этих отношениях. И в то же время к изучению окружавшего его пространства — чтобы понять начало современного искусства (art moderne). Сегодня много говорят о модернизме, а прежде спорили о том, чем было современное искусство…

Р.Ш.: — Да, но начало современного искусства — не то же самое, что основание поля живописного производства. Общая конституция поля, которая также предполагает позиции тех, кто не занимается современным искусством, неизбежно возвращает к другим детерминантам. Или ты думаешь, что раскат грома, который произвел Мане, сам по себе перестроил всю совокупность позиций, заставив их сосуществовать в качестве противоположных позиций внутри чего-то нового — поля живописи?
П.Б.: — Ты совершенно справедливо меня исправил. Я предложил классический образ одинокого революционера, изолированного и исключенного. Это ошибочный образ. Ты прав, Мане устанавливает мир, в котором уже никто не может сказать, кто такой художник и что значит правильно писать. Интегрированный социальный мир, тот, который правил Академией, — это мир, в котором есть nomos, фундаментальный закон и принцип разделения. Греческое слово nomos происходит от глагола nemō, что значит «разделять», «разъединять». В процессе социализации мы усваиваем принципы разделения, которые также являются принципами видения: мужское и женское, сырое и сухое, холодное и горячее и т.д. Хорошо интегрированный академический мир утверждает: «Это — художник, а это — не художник». Это — художник, потому что он патентован, потому что государство удостоверяет, что он художник, потому что у него есть сертификат художника. Такой была Академия. С того самого дня, как прогремел Мане, уже никто не может сказать, кто — художник. Иными словами, мы перешли от nomos’а к аномии, к миру, в котором каждый может легитимно бороться за легитимность. Никто не может заявить: «Я — художник», чтобы ему при этом кто-нибудь не возразил: «Нет, ты — не художник. И я могу во имя своих притязаний на легитимность оспорить твою легитимность».
Специфическое иконоборчество артиста предполагает виртуозное знание артистического поля.
Р.Ж.: — Это и есть, по-твоему, определение поля современного искусства?
П.Б.: — Да. И таково же поле науки. Это мир, в котором ставится вопрос о легитимности и ведется борьба за легитимность. Социолога всегда могут оспорить в его идентичности социолога. Чем больше поле продвигается, накапливая свой специфический капитал, тем больше для оспаривания легитимности художника нужно обладать специфическим капиталом художника. Возьмем, к примеру, формы радикального оспаривания живописи, к которым прибегают сегодняшние концептуальные художники, начиная с разрезания холстов. Они должны великолепно знать историю искусства, чтобы оспаривать его адекватно, изобразительно, а не как обычные иконоборцы. Специфическое иконоборчество артиста предполагает виртуозное знание артистического поля. Это парадокс, но такие парадоксы существуют с момента возникновения поля.
Наивность, с какой утверждают: «Он рисует, как мой сын. Мой сын так же умеет», типична для человека, ничего не знающего о поле. Другой пример — Таможенник Руссо, который тоже был наивен. Но наивность появляется, только когда есть поле, так же как религиозная наивность возникает, лишь когда существует поле религии. Он стал художником для других. Другие — Пикассо, Аполлинер — сделали Таможенника Руссо художником, воспринимая его через поле живописи. Сам он при этом не понимал, что делает. Противоположностью ему был Дюшан, который в почти полном совершенстве — что не значит сознательно — усвоил законы артистического поля и первым использовал ресурсы этой институционализации аномии.
Р.Ш.: — Но если мы в этой же перспективе рассмотрим социальные науки, согласишься ли ты, что установление дисциплины в качестве таковой равнозначно формированию поля, как ты это описал на примере поля живописного производства?
П.Б.: — Для этого необходима игра и практические правила игры. Поле близко напоминает игру, и многое из того, что Хейзинга говорил об игре, применимо и к полю. Но есть важное отличие: в поле существует фундаментальный закон, правила, но не nomothete. В нем нет власти, наподобие федерации в спорте, которая устанавливает правила. Есть закономерности, имманентные самому полю, санкции, цензура, репрессии, вознаграждения, но они никем не учреждаются. Артистическое поле, к примеру, институционализовано меньше всего. В нем относительно мало инстанций посвящения. Можно вспомнить, конечно, Венецианскую биеннале, но по сравнению с научным или университетским полем, артистическое относительно слабо институционализовано.
Рассмотрим пример философии. Если кому-то вздумается войти в философскую игру с идеями, которые можно назвать «нацистскими» (таков случай Хайдеггера), ему придется, даже не осознавая того, подчиниться своду законов функционирования этого мира. И тогда «антисемитизм» превратится в «антикантианство». Тут есть связь: в те времена, когда возник Хайдеггер, Канта как выражение рационализма как раз защищали евреи. Но интересна та своеобразная алхимия, которую навязывает поле. Если я хочу высказывать нацистские идеи и считаться при этом философом, я должен их преобразить. Вплоть до того, что вопрос, был ли Хайдеггер нацистом, лишится смысла. Он им определенно был. Но интересно то, как Хайдеггер высказывал нацистские идеи на языке онтологии. С тем же самым столкнется тот, кто станет заниматься социологией и, тем более, математикой.
Формальные поиски чистого романа позволили Флоберу «отхаркнуть» собственный опыт социального мира и создать объективацию правящего класса того времени, которая составит конкуренцию лучшему историческому анализу.
Р.Ш.: — То, что ты предлагаешь, позволяет избежать наивного редукционизма. Историки, переходя от анализа социальных позиций и структур к анализу культурных объектов и практик, часто — даже чаще, чем другие — совершали своего рода короткое замыкание, напрямую увязывая продукцию с позицией. На уровне ли индивида, механически связывая продукт с индивидуальным производителем, или на уровне групп. Многие споры о формах «популярной культуры» увязли в этой привычке устанавливать отношения без всякой медиации. Поэтому я считаю ключевым вкладом понятие перевода, медиации или перефразирования на языке, навязанном состоянием поля.
Но у меня возникает тот же вопрос, что и при обсуждении понятия габитуса, вопрос, касающийся «времени больших длительностей» (longue durée): как быть с полем до появления поля? Как можем мы определить, что может быть сказано на языке, сформированном внутри общего пространства — даже если позиции в нем совершенно враждебны друг другу, — когда это пространство еще не существует? Я работаю сейчас над исследованием о Мольере, фокусируясь в частности на «Жорже Дандене». Можно сказать, что театр 17 века был одним из способов исследования социальных процессов, которое позже обретет другие формы в социологическом знании. Но речь не о предшественниках, несколько глупой идее составления портретной галереи, когда, указывая на Монтескье или даже более ранних мыслителей, говорят: «Вот прародители социологии». Это бессмысленная затея. С другой стороны, задуматься о том, какой тип дискурса позволил сосредоточиться на объектах, которые позже станут специфическими объектами научного поля, в частности социологии, не лишено смысла.
П.Б.: — Совершенно точно. Я мог бы добавить к Мольеру еще один пример — роман 19 века. Общим местом стало представление о Бальзаке как родоначальнике социологии. Более того, он сам себя считал социологом. Но для меня лучший социолог среди романистов — это Флобер. У многих это вызывает удивление, потому что его считают изобретателем формалистского романа. Представители Нового романа и их критики называли Флобера — на мой взгляд, ошибочно — создателем чистого романа, романа без объекта, вспоминая его слова: «Хочу написать книгу ни о чем». На самом деле, Флобер был самым реалистичным, с социологической точки зрения, романистом, особенно в «Воспитании чувств» и особенно потому, что он был формалистом. То же самое можно сказать о Мане, формалистские поиски которого были в то же время поисками реализма. Противоречие между реализмом и формализмом — одно из глупейших противоречий. Я полагаю, что у Флобера формальные поиски были случаем социального анамнеза, возвращением социального вытесненного. Формальные поиски чистого романа, от которых он совершенно исстрадался, позволили Флоберу «отхаркнуть» собственный опыт социального мира и создать объективацию правящего класса того времени, которая составит конкуренцию лучшему историческому анализу.
Когда я написал свой первый анализ «Воспитания чувств», я отправил его своим друзьям, включая философа, который спрашивал меня, обоснован ли социологически флоберовский взгляд на буржуазный мир. Это хороший вопрос. Думаю, Флобер и сам не отдавал себе отчет в том, что производил этот анализ. Это затрагивает проблему формы. Ведь именно работая над формой (и в то же время над самим собой, занимаясь социоанализом), он высказывал объективную истину о том, что заставило его писать роман. Наивно полагают, что Флобер отождествляет себя с Фредериком: «Фредерик — это и есть сам Флобер?» Флобер написал роман о человеке, который занимает ту же позицию, что и он, в социальном пространстве, но при этом не доходит до написания романа.
Это касается вопросов о функциях социологии — роли анамнеза, социоанализа, отношений между романом и научным дискурсом. Над одним вопросом мне пришлось поломать голову: почему, когда я перевожу «Воспитание чувств» на язык социологии, язык схем, это вызывает у читателей и почитателей Флобера такое отвращение? Почему то, что они считают «изумительным» («Воспитание чувств» — из числа тех романов, что пробуждают сильнейшую литературную страсть), отталкивает их при переводе в плоскую, объективирующую форму научного дискурса? Более того, этот опыт легко понять. Многие из моих сегодняшних аналитических работ наверняка возмутили бы меня двадцать лет назад.
Это заставляет нас задуматься над формами объективации. Я думаю, эти формы варьируются в зависимости от состояния поля. Рискну все усложнить и обращусь к аналогии: религиозные войны — это форма, которую приобретают гражданские войны при том состоянии дифференциации полей, когда политическое поле еще неотличимо от религиозного. В этот момент происходит «вязкая» борьба, в которой крестьянские войны одновременно являются религиозными. Глупо спрашивать, были они политическими или религиозными. Они были настолько политическими, насколько это возможно в границах пространства, где политическое поле еще не оформилось и единственная площадка — это религия. Точно так же Мольер, как ты показал на примере «Жоржа Дандена», может устанавливать форму социологической объективации — отношения буржуазии и дворянства, борьба за системы классификации и т.д. Так же Флобер говорит все, что может сказать в условиях специфической цензуры, связанной с таким политическим жанром, как роман.
Р.Ш.: — Сказать как можно больше или сказать иначе. Мы возвращаемся к проблеме, которой уже касались, к проблеме письма. Твои слова наводят на мысль о почти ностальгическом очаровании литературного письма, которое воздействует гораздо сильнее, чем самое завершенное и успешное социологическое исследование. Возможно, это снова связано с состоянием поля. В тот момент, когда социологический дискурс еще не сформирован как таковой, литература занимает все пространство. Она одновременно является литературой и отчасти социологией. Когда же возникает соперничество, конкуренция, дуализм, социологию обвиняют по умолчанию, поскольку она не может описывать общие для нее и литературы объекты самым легитимным языком — литературным. И здесь мы имеем дело с примером того, как может меняться дискурс, не потому что он меняется сам по себе, а потому что меняется поле, в котором он высказывается.
П.Б.: — Совершенно верно. Мне нечего добавить.
Р.Ш.: — Не хочется ли тебе временами быть Флобером?
П.Б.: — И да, и нет. Очевидно, тут не избежать ностальгии.
Если романисты часто и опережают нас, например, в понимании временных структур, повествовательных структур, использовании языка, то во многом потому, что отстраняют реальность, придавая ей приемлемую форму. Они дотрагиваются до нее пинцетом формы и только так могут ее терпеть.
Я думаю, тот факт, что Флобер был в состоянии понять социологически, почему он может быть лишь Флобером и никем иным (что само по себе необычайно) и почему ему не стать социологом (не стоит забывать, что он не только хотел быть мастером языка и формы, но стремился говорить правду о социальном мире), помешал ему мечтать о дискурсе, который на деле оказался бы отчужденным. В какой-то степени Флобер не cмог в полной мере сделать то, чего хотел. Он не смог сказать то, что говорил о социальном мире, потому что он говорил это таким образом, что не сознавался в этом себе. Возможно потому, что правда о социальном мире была для него терпимой лишь в таком, преобразованном виде.
Мне часто говорят: «В конце концов, вы, социологи, отстаете от романистов». Я считаю, например, что Фолкнер — потрясающий романист популярного дискурса. Это может кого-то удивить, но если бы меня спросили, где можно найти что-либо похожее на популярный язык — тот, что мы слышим в интервью, — я бы ответил: у Фолкнера.
Если романисты часто и опережают нас, например, в понимании временных структур, повествовательных структур, использовании языка, то во многом потому, что отстраняют реальность, придавая ей приемлемую форму. Они дотрагиваются до нее пинцетом формы и только так могут ее терпеть. Социолог же нестерпим, потому что говорит о вещах как они есть, не помещая их в форму.
Различие формы — одновременно все и ничего. Оно объясняет, почему превращение «Воспитания чувств» в схему одновременно ничего не меняет и меняет все. В результате то, что очаровывало, становится нестерпимым, потому что оно было продуктом отрицания и снова было отвергнуто получателем, который понимает все, не понимая ничего. Его очаровывает «игра с огнем», социальным огнем, который никому не хочется знать.
Р.Ш.: — Мне думается, что отношения между способами письма и научной дисциплиной зависят от самой дисциплины. Историку проще подстроиться под повествовательные формы, которые с большей легкостью заимствуются у литературы, поскольку ставки в игре совершенно другие. В социологии же важна дистанция по отношению к самому объекту.
П.Б.: — Мне часто хочется дразнить моих друзей-историков, которые заботятся о красивой форме и порой не утруждают себя грубостями концепта, которые крайне важны для продвижения науки. Забота о красивой истории бывает очень важна, поскольку есть функция вызывания, и один из способов сконструировать научный объект — это дать его почувствовать, увидеть, вызвать его в уме, почти как у Мишле, хотя сам я об этом не особо забочусь. Можно ли вызвать в уме структуру? Это немного странно, но это — одна из функций историка. В отличие от социолога, который, наоборот, должен отключить непосредственную интуицию. Если он хочет объяснить ночь выборов, он знает, что читателю известно слишком много, и потому должен отрезать все лишнее. Тогда как историк, рассказывая о монахах-бенедиктинцах, будет писать о лесе и т.д. У изящного стиля есть своя функция. Но порой, мне кажется, историки жертвуют слишком многим ради красивой формы и не купируют начальный опыт, эстетические предпочтения, удовольствия, связанные с объектом.
Р.Ш.: — И это усиливается возвращением к формам, где социальный актор заполняет собой все, отчего у историка возникает соблазн воскрешать мертвые души в своем рассказе. Отсылка к Мишле здесь весома, но в то же время может помешать дистанцироваться в историческом анализе конфигураций, отличающихся от тех, которые ты описал, в артикуляции систем позиций и занимающих их индивидов. Это один из важных дебатов, актуальных постольку, поскольку история сближается с воскрешением мертвых. Что может повлиять на это воскрешение сильнее, чем большие повествовательные формы, большие рассказы — о событиях или о жизни? Возможно, отказываясь в какой-то степени от анализа структур, история отказывается от того, что не было завершено в этой работе по объективации. Я думаю, ты указываешь здесь на один из важнейших споров, разделяющих сегодня профессиональное сообщество историков.
П.Б.: — Я бы хотел напоследок еще раз объяснить, почему я назвал Флобера великим социологом. Он одновременно вызывает в уме поле: пространство, позиции, писатели и артисты с одной стороны, банкиры — с другой. И в то же время он очень точно вызывает в уме персоны — не в смысле субъекта, который рассказывает о себе, но в смысле порождающей формулы. Я это показал на примере пятерых молодых людей, героев «Воспитания чувств». Это своего рода формулы. Флобер их составляет таким образом, что можно предугадать, как они поведут себя в различных ситуациях. И это для меня — изумительная форма биографии, совершенно отличная от многих сугубо описательных биографических повествований.
Перевод: Николай Вокуев
Ссылки на предыдущие части:
Эпизод 1, Эпизод 2, Эпизоды 3 и 4.
Источник: syg.ma