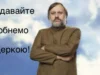Трудно сказать, когда все это началось. Может быть, начало этой революции положил первый поставленный хештэг #MeToo, а может быть захват примерно сотней секс-работниц церкви Сен-Низье в Лионе в 1975 году.
А может быть в качестве отправной точки лучше назвать 1851 год, когда афро-американская феминистка Соджорнер Трут на Конвенте за права белых женщин в городе Акрон, штат Огайо, встала и громко спросила: “Разве я не женщина?” – тем самым впервые в истории потребовав свобод и права голоса для цветных женщин. Это зависит от того, смотрите ли вы из личной перспективы или из космоса, национальной или глобальной, и от того, чувствуете ли вы себя активно вовлеченным в историю сопротивления, которая была до вас, и будет продолжаться после вас.
Но даже если мы не можем найти точный момент, когда начинается процесс массового освобождения, мы можем чувствовать вибрации, которые он производит в телах, через которые он проходит. Нет никакого единственного нарратива для описания этого процесса. Особенность экологических, трансфеминистских и антирасистских движений – это умножение голосов, артикуляция гетерогенных последствий, множественность языков.
Всего несколько месяцев назад во Франции, старейшей и самой прожорливой из патриархально-колониальных империй (и там, где я сейчас живу), мы были на грани мобилизации всего того, что накопило энергию сопротивления и борьбы для запуска нового трансфеминистского и деколониального революционного цикла. Двадцать лет назад группа Тиккун, гуру радикальных левых, писала, что “девушка” является центральной фигурой консумеристской доместикации современного капитализма, одновременно образцовым гражданином и тем телом, которое лучше всего воплощает новую физиогномику неолиберализма.
Под фигурой “девушки” Тиккун подразумевали якобы потребителя-гомосексуала, а также ведущих бесцельный образ жизни цветных обитателей типового жилья окраин французских городов (как можно себе представить подобное смещение этих фигур, не впадая при этом в гомофобию и расизм!). Они представляли “девушку” как продукт угнетения высокого уровня и высшей степени лицемерного подчинения, что неизбежным образом практически лишало ее какого бы то ни было политического сознания. Наши друзья из Тиккун не предсказывали, что именно эти группы – молодые девушки, геи, трансвеститы и цветные лишенцы с окраин возглавят следующую революцию.
Однажды, не предупредив левых гуру, их патриархов или боссов, изнасилованные молодые девушки начали изгонять своих насильников, вытаскивая из пыльного чулана истории о сексуальном насилии и домогательствах – так движение #MeToo, основанное несколькими годами ранее Тараной Берк, стало вирусным. Из чулана вывалились епископы и папики, учителя и топ-менеджеры, врачи и тренеры, кинорежиссеры и фотографы.
В то же время повсюду поднимались люди, подвергающиеся гендерному и расовому насилию: транссексуалы, лесбиянки, интерсексуалы и активисты антирасистского движения; движения в защиту прав людей с различными когнитивными и функциональными способностями; цветные работники на небезопасных работах; секс-работники всех полов; усыновленные дети, лишенные своих имён и прошлого, и многие другие. В разгар этого вихря восстаний в феврале этого года кинематографическая премия “Сезар” (французский “Оскар”) превратилась в демонстрацию по телевидению штурма Бастилии деколониальными и трансфеминистскими силами.

В главной роли выступила актриса Айса Майга, осудив институционализированный кинематографом расизм. Когда они вручали премию за лучшую режиссуру отсутствующему Роману Полански (насильника никогда нет; у насильника нет тела), другая актриса, Адель Энель, встала и вместе с режиссером Селин Сьямма развернулась спиной к патриархам кино и ушла.
Два дня спустя Виржини Депант, ака субкоманданте Кинг-Конг, присоединилась к Майга, Энель и др. и, осудив неолиберальные реформы президента Франции Эммануэля Макрона как соучастие в политике угнетения, – как сексуального, так и расового, – объявила всеобщую забастовку среди угнетенных меньшинств: “А теперь мы встаем и выходим”.
И мы встали и вышли тысячами, вплоть до акции протеста 7 марта, в канун Международного женского дня. Мы вышли на улицы Парижа, и ночь превратилась в собрание техно-ведьм, преследуемых полицией. Но ни полиция, ни слезоточивый газ, ни дождь не смогли сорвать восстание. Я никогда не видел более прекрасного марша: бабушки и внучки, гомосексуалы и натурал-диссиденты, мятежники всех полов, цисгендеры и трансвеститы, афро-европейцы, арабы и антирасисты-белые, говорящие ртом люди и говорящие на языке жестов, люди шагающие и люди в инвалидных колясках, мигранты, синие воротнички, секс-работники. Мы больше не обсуждали, идти или не идти смотреть ничтожные фильмы Полански. Мы говорили о революции.
Да, хотя вы, возможно, и не знали об этом, но мы были на грани трансфеминистского деколониального восстания; мы собрали наши коммандос и, как говорят сапатисты, мы “обуздали нашу ярость”. Но все это случилось буквально за несколько дней, прежде чем COVID-19 посадил Францию и большую часть остального мира под замок, в результате чего мы были вынуждены самоизолироваться по домам, в результате чего наши тела были объективированы в качестве непосредственно биологических организмов, восприимчивых к передаче вируса и заражению, в результате чего наши стратегии борьбы были деколлективированы, а наш голос разбился на фрагменты.
Если бы глобальный технопатриархальный капитализм захотел бы организовать трансверсальную стратегию по уничтожению диссидентских движений от Гонконга до Барселоны и Варшавы, он не смог бы найти лучшей формулы, чем та, которая была навязана вирусом: домашний арест и меры предосторожности, направленные на соблюдение социальной дистанции, а также с новейшая цифровая слежка за потенциально инфицированными теле-гражданами.
Доктрина шока, которую разоблачила Наоми Кляйн, и ее отчетливо различимые фазы – инструментализация “природной” катастрофы, объявление чрезвычайного положения, превращение кризиса в режим управления, спасение банков и транснациональных корпораций, и оставление тысяч людей на произвол судьбы, и так далее – постепенно разворачивалась на наших глазах в планетарном масштабе. Все это происходит на самом деле, но констатировать невозможность в равной степени стратегического сопротивления, не учитывающего влияние эпидемии COVID-19 на индивидуальное и коллективное сознание, означает также натурализовать угнетение, принять его как должное, подписать “чистый чек” капитализму на апокалипсис.
Не нужно обращаться к религии, чтобы понять масштаб социальных и политических изменений, вызванных эпидемией COVID-19, подобно гигантскому техно-шаманскому ритуалу для «остановки мира».
Что мы можем узнать о неолиберальном менеджменте COVID-19, если рассматривать его с точки зрения деколониального трансфеминизма и антирасизма? Именно в такие моменты мы должны, используя слова феминистского и деколониального политического теоретика Франсуазы Вержес, активизировать утопическое мышление в качестве энергии и топлива восстания, в качестве мечты об эмансипации и в качестве жеста отказа.
Мы должны признать, что менеджмент эпидемии COVID-19 породил не только политическое чрезвычайное положение и гигиеническую регуляцию общественного организма, но и то, что можно было бы назвать, вслед за Феликсом Гваттари и Сюли Ролник, микрополитическим чрезвычайным положением: кризис инфраструктуры сознания, восприятия, смысла и значения. И это микрополитическое открытие – наш единственный шанс.

Источник: Artforum