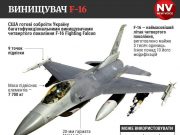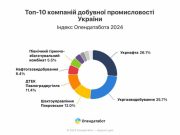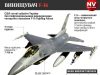Постепенно, органические общества стали развивать менее традиционные формы дифференциации и стратификации. Их первоначальное единство начало разрушаться. Социально-политические или «гражданские» ??сферы жизни расширились, отдавая растущее верховенство старейшинам и мужчинам сообщества, которые теперь заявили свои права на эту сферу, в рамках разделения труда внутри племени. Мужское превосходство над женщинами и детьми возникло в основном как следствие реализации социальных функций мужчин в жизни общества — функций, которые были отнюдь не исключительно экономическими, как теоретики марксизма хотели бы заставить нас считать. Мужские хитрости в манипуляции женщинами должны будут появиться позже.
Постепенно, органические общества стали развивать менее традиционные формы дифференциации и стратификации. Их первоначальное единство начало разрушаться. Социально-политические или «гражданские» ??сферы жизни расширились, отдавая растущее верховенство старейшинам и мужчинам сообщества, которые теперь заявили свои права на эту сферу, в рамках разделения труда внутри племени. Мужское превосходство над женщинами и детьми возникло в основном как следствие реализации социальных функций мужчин в жизни общества — функций, которые были отнюдь не исключительно экономическими, как теоретики марксизма хотели бы заставить нас считать. Мужские хитрости в манипуляции женщинами должны будут появиться позже.
До этого этапа истории или предыстории, старейшины и мужчины редко выполняли социально доминирующие роли, поскольку их гражданская сфера была просто не столь важна для сообщества. В самом деле, гражданская сфера заметно уравновешивалась огромным значением женщины во «внутренней» сфере. Бытовые обязанности и деторождение были гораздо более важными в ранних органических обществах, чем политика и военное дело. Ранние общества глубоко отличались от современного своими структурными механизмами и ролью, которую играли разные члены сообщества.
Но даже с возникновением иерархии еще не существовало ни экономических классов и государственных структур, ни людей материально эксплуатируемых на систематической основе. Определенный слой, который составляли старейшины и шаманы, и, в конечном счете, мужчины в целом, стали заявлять свои права на привилегии – часто просто как предмета престижа, основанного на общественном признании, а не материальной выгоде. Природа этих привилегий, если таким образом их можно называть, требует более сложного обсуждения, чем те, что проводились до сегодняшнего дня, и я пытался изучить их внимательно и достаточно подробно. Только позже начинают появляться экономические классы и экономическая эксплуатация, и, в конечном счете, за ними последует государство с его далеко идущей бюрократической и военной атрибутикой.
Но превращение органических обществ в иерархические, классовые и политические общества происходило неравномерно и нестабильно, переходя вперед и возвращаясь назад в течение длительных периодов времени. Мы можем видеть это особенно наглядно в отношениях между мужчинами и женщинам, в частности с точки зрения ценностей, которые были связаны с изменением социальных ролей. Например, хотя антропологи в течение долгого времени приписывали чрезмерную степень социального верховенства в высокоразвитых охотничьих культурах мужчинам, верховенство, которым они вероятно никогда не пользовались в более ранних фуражных племенах (охотников и собирателей) своих предков; вытеснение охотничества земледелием, в котором садоводством занимались в основном женщины, возможно, компенсировала любой прежний дисбаланс, который мог существовать между полами.
«Агрессивные» мужчины-охотники и «пассивные» женщины-собиратели являются театрально преувеличенными представлениями, которые антропологи-мужчины прошлой эпохи навязали в своих «диких» аборигенных концепциях, но, определенно, напряженность и смена ценностей, независимо от социальных отношений, должны были постепенно взорваться внутри первобытных общин охотников и собирателей. Если отрицать явное существование скрытой напряженности в установках, которые должны были существовать между охотником-мужчиной, которому приходилось убивать ради пропитания, а затем воевать против своих ближних, и женщиной-собирательницей, которая собирала свою пищу, а затем выращивала ее, то становится очень сложно объяснить, почему патриархат и его резко агрессивный облик мог когда-либо вообще возникнуть.
Хотя изменения, на которые я ссылался, были технологическими и частично экономическими – что отразилось в значении таких терминов, как собиратели, охотники и земледельцы — мы не должны считать, что эти изменения несут прямую ответственность за изменения в статусе полов. Учитывая уровень иерархической разницы, которая возникла в этот ранний период жизни общества, даже в патрицентричных (патрифокальных) общинах ни женщины еще не были униженно подчинены мужчинам, ни молодые не были в беспрекословном подчинении стариков. Действительно, появление системы рангов, которая предоставила преимущество одному слою общества перед другим, и в первую очередь старым перед более молодыми, была своеобразной формой вознаграждения, которая чаще всего отражала эгалитарные особенности органического общества, а не авторитарные особенности более поздних обществ.
Когда количество земледельческих сообществ начало увеличиваться до уровня, когда пахотных земель стало относительно мало, а войны стали все более распространены, молодые воины стали пользоваться социально-политическим превосходством, которое сделало их в сообществе «большими людьми», разделяющими гражданскую власть со старейшинами и шаманами. В этот период матрицентричные (матрифокальные) обычаи, религии, и мировоззрения сосуществовали с патрицентричными, так, что жесткие особенности патриархата нередко отсутствовали в течение этого переходного периода. Независимо от матрицентричности или патрицентричности, более старый эгалитаризм органического общества пронизывал социальную жизнь и угасал очень медленно, оставляя многие рудиментарные следы еще долгое время после того, как классовое общество закрепило свое влияние на общепринятые ценности и мировоззрения.
Государство, экономические классы и непреодолимая систематическая эксплуатация порабощенных народов произошли из более сложных и длительных процессов развития, чем признавали в свое время радикальные теоретики. Их представление об истоках классовых и политических обществ, было на самом деле кульминацией более раннего, детально описанного развития общества к иерархическим формам. Разделение внутри органического общества все больше возвышало старых в их превосходстве над молодыми, мужчин над женщинами, шаманов, а затем и священническую корпорацию над светским обществом, один класс в превосходстве над другими, а государственные образования в господстве над обществом в целом.
Для читателя, воспитанного на общепринятой премудрости нашей эпохи, я должен особо подчеркнуть, что общество в виде групп, семей, кланов, племен, племенных федераций, деревень, и даже муниципалитетов предшествовало государственным образованиям задолго до их появления. Государство, с его специализированными функционерами, бюрократией и армией появляется довольно поздно в социальном развитии человечества, часто далеко за порогом истории. И оно остается в состоянии острого конфликта с сопутствующими социальными структурами, такими как гильдии, соседские кварталы, народные общества, кооперативы, городские собрания, а также широким рядом муниципальных собраний.
Но иерархическая организация всех свойств и видов не закончилась структурированием «гражданского» общества в институционализированную систему командования и подчинения. Со временем, иерархия начала вторжение в менее осязаемые сферы жизни.
Умственной деятельности было дано преимущество перед физической работой, интеллектуальному опыту перед чувственностью, «принципу реальности» перед «принципом удовольствия», и, наконец, рассудительность, мораль и дух были проникнуты невыразимым авторитаризмом, который позже распространил свою мстительную власть на язык и самые элементарные формы символизации. Представление о социальном и природном разнообразии было сведено от органического восприятия, которое рассматривает разные явления, как единство в многообразии к иерархическому менталитету, который придал самым незначительным явлениям ранг взаимно антагонистических пирамид, возведенных вокруг понятий о «низшем» и «высшем». И то, что начиналось как восприятие, превратилось в конкретный социальный факт. Таким образом, усилия по восстановлению экологического принципа единства в многообразии стали самодостаточными социальными усилиями — революционной работой, которая должна изменить восприятие для того, чтобы изменить реальный мир.
Иерархический менталитет порождает отречение от радостей жизни. Он оправдывает труд, чувство вины и жертвы со стороны «низших», а также удовольствие и снисходительное удовлетворение практически всех прихотей «высших». Объективная история социальной структуры становится интернализированной в качестве субъективной истории психической структуры. Это не дисциплина работы, но это дисциплинагосподства, которое требует подавления внутренней природы, и такого же отвратительного, какой может быть моя точка зрения для современных фрейдистов. Это подавление затем распространяется на внешнюю природу, как на исключительно объект господства, а затем и эксплуатации. Этот менталитет пронизывает нашу индивидуальную психику в кумулятивной форме вплоть до наших дней, не просто в виде капитализма, но в виде обширной истории иерархического общества с момента его возникновения. Пока мы не исследуем эту историю, которая активно живет внутри нас, в виде более ранних этапов наших индивидуальных судеб, мы никогда не будем свободны от ее власти. Мы может устранить социальную несправедливость, но мы не достигнем социальной свободы. Мы можем устранить классы и эксплуатации, но мы не сможем избавиться от пут иерархии и доминирования. Мы можем изгнать дух наживы и накопительства из нашей психики, но мы все еще будем обременены терзающей виной, самоотречением, и трудно уловимой верой в «порочность» чувственности.
Еще один ряд отличительных особенностей, которые появляются в этой книге, это различия между моралью и этикой, а также между справедливостью и свободой. Мораль, согласно тому, как я использую этот термин, означает осознанные стандарты поведения, которые пока еще не подвергались сообществом тщательному рациональному анализу. Я избегаю использования слова «обычай» в качестве замены для слова мораль, поскольку моральные критерии для суждений о поведении действительно требуют некоторых объяснений, и не могут быть сведены к обусловленным социальным рефлексам, которые мы обычно называем обычаями. Заповеди Моисея, подобно заповедям других религий мира, например, основывались на теологической почве, они были священными словами Яхве, которые мы могли бы подвергнуть сомнению сегодня, поскольку они не основаны на разуме. Этика же, напротив, подразумевает рациональный анализ и, как «нравственный императив» Канта, должна быть подтверждена интеллектуальными заключениями, а не просто верой. Мораль, таким образом, лежит где-то посередине между бездумными обычаями и рациональными этическими критериями добра и зла. Не разделив эти понятия, было бы сложно объяснить возрастающие этические претензии государства к своим гражданам, особенно в изнашивающихся архаичных моральных нормах, которые поддерживали тотальный патриархальный контроль над семьей, и в препятствиях, которые создает эта власть на пути политически более экспансивных сообществ, таких, как афинский полис.
Определение различий между справедливостью и свободой, между формальным равенством и действительным равенством является еще более основополагающими и постоянно повторяется на протяжении всей книги. Это различие было мало изучено даже радикальными теоретиками, которые часто еще повторяют эхо исторического крика угнетенных о «Справедливости!», а не свободе. И что еще хуже, эти два понятия использовались в качестве синонимов (какими они явно не являются). Молодой Прудон, а затем Маркс правильно поняли, что истинная свобода предполагает равенство, основанное на признании неравенства способностей и потребностей, возможностей и ответственности. Простое формальное равенство, которое «справедливо» вознаграждает каждого в соответствии с его или ее общественным вкладом, видит всех «равными перед лицом закона» и наделяет «равными возможностями»; вместе с тем грубо затмевает тот факт, что молодые и старые, слабые и немощные, имеющие немногие обязанности и обремененные многими (не говоря уже о богатых и бедных в современном обществе), вовсе не обладают истинным равенством в обществе, которое руководствуется правилом эквивалентности. В самом деле, такие термины, как вознаграждение, потребности, возможности, или, если уж на то пошло, собственность, будь она коммунально «обладаемая» или коллективно используемая, требуют столь же обширных исследований, что и слово закон. К сожалению, революционные традиции не в полной мере развили эти темы и их воплощение в определенных терминах. Социализм, в большинстве его форм, постепенно выродился в требование «экономической справедливости», тем самым просто переформулировал правило эквивалентности в качестве экономического дополнения к юридическому и политическому принципу эквивалентности установленному буржуазией. Моей целью является досконально исследовать эти различия, чтобы продемонстрировать то, как возникло это смешение понятий в самом начале, и как это можно прояснить, с тем, чтобы оно более не отягощало будущее.
Третье различие, которое я стараюсь раскрыть в этой книге, это различие между счастьем и удовольствием. Счастье, как определено здесь, это просто удовлетворение потребностей, необходимых для нашего выживания, потребностей в пище, жилье, одежде и материальном обеспечении, одним словом, потребности нас, как животных организмов. Удовольствие, напротив, является удовлетворением наших желаний, наших интеллектуальных, эстетических, чувственных и игривых «мечтаний». Социальное стремление к счастью, которое, как часто кажется, освобождает, как правило, проявляется таким образом, которым практически девальвирует или подавляет стремление к удовольствию. Мы видим свидетельства этого регрессивного развития во многих радикальных идеологиях, которые оправдывают тяжкий труд и нужду взамен творческой работы и чувственных радостей. То, что эти идеологии осуждают стремление к удовлетворению чувственных потребностей, как «буржуазный индивидуализм» и «распущенность», вряд ли требует напоминания. Между тем я убежден, что именно в этих утопических поисках удовольствия человечество начинает достигать самых ярких проблесков эмансипации. В этих поисках, относящихся к социальной сфере, а не ограниченных личным гедонизмом, человечество начинает выходить за пределы области правосудия, даже бесклассового общества, и входит в царство свободы, царство, задуманное, как полная реализация человеческого потенциала в его наиболее творческой форме.
Если бы меня попросили выделить один основной контраст, который проходит через всю эту книгу, то это было бы кажущееся противоречие между «царством необходимости» и «царством свободы». Концептуально этот конфликт берет свое начало в «Политике» Аристотеля. Она включает в себя «слепой» мир «естественной» или внешней природы и рациональный мир «человеческой» или внутренней природы, в котором общество должно доминировать для того, чтобы создать материальные условия для свободы, свободное время и досуг, которые позволят человеку развить свои возможности и силы. Эта драма попахивает конфликтом между природой и обществом, женщиной и мужчиной, телом и разумом, который проходит через западные образы «цивилизации». Она стала фундаментом почти каждого рационалистического представления об истории, она была использована для того, чтобы идеологически обосновать доминирование практически в каждом аспекте жизни. Ее апофеоз, по иронии судьбы, подготовлен различными теориями социализма, особенно теориями Роберта Оуэна, Сен-Симона, и, в самой изощренной форме, Карла Маркса. Представление Маркса о «дикаре, который борется с природой» является проявлением не столько высокомерия Просвещения, сколько викторианской спеси. Женщина, согласно наблюдениям Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, не имеет своей доли в этом конфликте. Конфликт происходит исключительно между мужчиной и природой. Со времен Аристотеля до Маркса, раскол считался неизбежным: разрыв между необходимостью и свободой может быть сокращен технологическим прогрессом, который даёт человеку все большую власть над природой, но он никогда не может быть преодолен. Вопрос, который занимал некоторых искушенных марксистов в последующие годы, заключался в том, как подавление и дисциплинирование внешней природы может быть достигнуто без подавления и дисциплинирования внутренней: как можно управлять «естественной» природой без порабощения «человеческой» природы?
Моя попытка разгадать эту загадку подразумевает обращение к мифическому «дикарю» викторианцев, исследование внешней природы и ее отношения к внутренней природе, для осмысления мира необходимости (природы) с точки зрения способности мира свободы (общества), колонизировать и освободить его. Моя стратегия предполагает пересмотр эволюции и значения технологии в новом экологическом свете. Я постараюсь выяснить, как работа перестала быть привлекательной и игривой, и превратились в обременительный труд. Таким образом, я пришел к решительному переосмыслению природы и структуры технологий, работы, а также метаболизма человечества с природой.
Здесь я хотел бы подчеркнуть, что мои взгляды на природу связаны довольно неортодоксальным понятием о разуме. Как Адорно и Хоркхаймер уже подчеркивали, разум когда-то воспринимался как имманентная черта реальности, безусловно, как организующий и мотивирующий принцип мира. Он рассматривался как изначальная сила, подобная логосу, которая придавала реальности смысл и согласованность во всех уровнях бытия. Современный мир отказался от этого понятия и сократил разум до рационализации, то есть, всего лишь до техники достижения практических целей. Логос, по существу был просто превращен в логику. Книга пытается восстановить это понятие имманентного мирового разума, однако, без архаичной, квази-теологической атрибутики, которая делает это понятие непригодным для более осведомленного и светского общества. На мой взгляд, разум существует в природе, как самоорганизующие атрибуты вещества, это латентная субъективность в неорганических и органических слоях реальности, которые обнаруживают присущее им стремление к сознанию. В человечестве эта субъективность обнаруживает себя как самосознание. Я не утверждаю, что мой подход является уникальным, обширная литература, которая поддерживает существование, по-видимому, собственного логоса в природе, происходит в основном из научного сообщества. Все, что я пытался сделать здесь, это облечь мои рассуждения о разуме в отчетливо историческую и экологическую терминологию, свободную от теологических и мистических уклонов, которые так часто омрачают формулировки рациональной натурфилософии. В заключительных главах я стараюсь исследовать область соприкосновения естественной философии и либертарианской социальной теории.
Я также обязан воскресить аутентичную Утопическую традицию, особенно выраженную Рабле, Шарлем Фурье и Уильямом Моррисом, из-под толщи обломков футуризма, который скрывает его. Футуризм, о чем свидетельствуют работы Германа Кана, просто экстраполирует отвратительное настоящее в еще более отвратительное будущее и тем самым стирает творческие, созидательные измерения будущего. Утопическая традиция, напротив, стремится пропитать необходимость свободой, работу игрой, и даже тяжелый труд творчеством и праздничностью. Мое противопоставление утопизма и футуризма создает основу для созидательной освободительный реконструкции экологического общества, для смысла человеческой миссии и предназначения ввиду того, что природа воспроизвела самосознание.
Эта книга начинается с норвежского мифа, который описывает, что боги должны понести наказание за стремление к покорению природы. Он заканчивается социальным проектом снятия этого проклятия (penalty), чей латинский корень poenalis дал нам слово боль. Человечество станет теми божествами, которых оно создало в своем воображении, правда божествами, царящими в природе, а не над природой, как «сверхъестественные» существа. Название этой книги, «Экология свободы», призвано выразить примирение природы и человеческого общества в новой экологической восприимчивости и новом экологическом обществе – регармонизацию природы и человечества через регармонизацию человека с человеком.
Диалектическое напряжение проходит через эту книгу. На протяжении всей моей дискуссии я часто обращаюсь к потенциальным возможностям, которые до сих пор еще не актуализировались исторически. Потребность в пояснениях часто вынуждает меня обращаться к определенным социальным предпосылкам находящимися в зачаточной форме, как будто они уже достигли своей реализации. Процедура, которой я руководствуюсь, продиктована необходимостью рельефного изложения концепции для полномерного прояснения ее значения и последствий.
Например, из моего описания исторической роли старейшин в формировании иерархии, некоторые читатели могут сделать вывод, что, я верю впредполагаю существование иерархии уже на заре человеческого общества. Влиятельная роль, которую старейшины должны были сыграть в формировании иерархий, переплетена с их более скромной ролью в более ранние периоды развития общества, когда они фактически имели сравнительно небольшое социальное влияние. В этой ситуации передо мной стоит необходимость выяснить то, как старейшины посеяли первые «семена» иерархии. Геронтократия была, вероятно, первой формой иерархии, существовавшей в обществе. Но, благодаря моему способу изложения, некоторые читатели могут предположить, что верховенство старых над молодыми существовало и в те периоды человеческого общества, когда этого верховенства на самом деле не было. Тем не менее, незащищенность, которая приходит с возрастом, почти наверняка существовала среди старейшин, и, в конце концов, они использовали все доступные средства, для того чтобы превалировать над молодыми и завоевать их почитание.
Та же проблема разъяснений возникает, когда я имею дело с ролью шамана в эволюции ранних иерархий, с ролью мужчины по отношению к женщине, и так далее. Читатель должен помнить, что любой «факт», твердо констатированный, и, казалось бы, исчерпывающий, на самом деле является результатом сложного процесса, а не данной точкой отсчета, которая появляется сразу в полном своем масштабе в сообществе или обществе. Большая часть диалектического напряжения, которое пронизывает эту книгу, возникает в силу того, что я имею дело с процессами, а не с выдернутыми из контекста сухими предположениями, которые удобно следуют друг за другом парадным строем, как категории в традиционном логическом тексте.
Зарождающиеся, потенциально иерархические элиты постепенно развиваются, каждый этап их эволюции затмевается следующим, пока первые устойчивые ростки иерархии не возникают, и в конечном итоге, не созревают. Их рост неравномерен и тесно переплетен. Старейшины и шаманы полагаются друг на друга, а затем конкурируют друг с другом за социальные привилегии, многие из которых являются попытками достижения личной безопасности, даруемой определенной мерой влияния. Обе группы вступают в союзы с формирующейся из молодых людей кастой воинов, чтобы, наконец, сформировать истоки квази-политического сообщества и зарождающегося государства. Только тогда их привилегии и полномочия становятся обобщенными в институты, которые пытаются распоряжаться обществом в целом. В отдельных случаях, тем не менее, иерархический рост мог быть приостановлен и даже «регрессирован» до большего паритета между возрастными группами и полами. Не считая тех случаев, когда верховенство было захвачено извне, путем завоевания, появление иерархии не было внезапной революцией в человеческих делах. Это часто было длительным и сложным процессом.
И, наконец, я хотел бы подчеркнуть, что эта книга построена на контрастах между дописьменными, неиерархическими обществами, их взглядами, методами и формой мышления и «цивилизациями», основанными на иерархии и доминировании. Каждая из тем, затронутых во второй главе, снова подхватывается в последующих и исследуется более подробно для того, чтобы прояснить обширные изменения, которые «цивилизация» привносила в состояние человечества. То, чего нам часто не хватает в нашей повседневной жизни и нашей социальной восприимчивости, так это осознания процесса расслаивания и медленных последовательных перемен по пути которых наше общество развивалось в противоположность, а зачастую в жестоком антагонизме, к доиндустриальным и дописьменным культурам. Мы живем настолько глубоко погружено в наше настоящее, что оно поглощает всю нашу восприимчивость и, следовательно, даже нашу способность задумываться об альтернативных социальных формах. Поэтому я буду постоянно возвращаться к дописьменной восприимчивости, которую я лишь упоминаю во второй главе, чтобы исследовать ее различия с более поздними учреждениями, методами и формой мышления в иерархических обществах.
Эта книга не марширует под барабанную дробь логических категорий, равно как и ее аргументы не выстроены для торжественного парада по четко разграниченным историческим эпохам. Я не написал истории событий, каждое из которых следует за другим в соответствии с диктатом наперед заданной хронологии. Антропология, история, идеологии, даже системы философии и разума наполняют эту книгу, а вместе с ними отступления и экскурсы, которые, на мой взгляд, проливают ценный свет на великий ход природного и человеческого развития. Более нетерпеливый читатель, возможно, захочет перепрыгнуть через пассажи страниц, которые он или она находят слишком дискурсивными или отклоняющимися от темы. Но эта книга сосредоточена на нескольких общих идеях, которые развиваются в соответствии со странной и подчас непредсказуемой логикой скорее органического, чем строго аналитического толка. Я надеюсь, что читатель тоже захочет расти вместе с этой книгой, прожить ее и понять, критически и дотошно, чтобы самому во всем удостовериться, но с сочувствием и восприимчивостью к жизненному развитию свободы, которое она описывает и диалектике, которую она исследует в истории человеческого конфликта с доминированием.
Принеся mea culpas[1] за некоторые проблемы, связанные с пояснениями, я хотел бы решительно подтвердить мое убеждение в том, что этот процессно-ориентированный диалектический подход подводит значительно ближе к сути иерархического развития, чем предположительно более четкий аналитический подход, который так предпочитают академические логики. Когда мы оглядываемся на много тысячелетий назад, то наше мышление и анализ прошлого слишком заполнены опытом длительного исторического развития, которого явно не было у человечества на ранних этапах его истории. Мы склонны проецировать в прошлое огромный объем социальных отношений, политических институтов, экономических концепций, моральных наставлений, и огромный массив личных и социальных идей, которые людям, живущим тысячи лет назад, еще предстояло создать и концептуализировать. То, что для нас является созревшей реальностью, для них было все еще неоформленными возможностями. Они думали в системе понятий, которые в основном отличались от наших. То, что мы сегодня воспринимаем как должное, как часть «человеческого статуса» было просто немыслимым для них. Мы, в свою очередь, практически не в состоянии иметь дело с огромным разнообразием естественных феноменов, которые были неотъемлемой частью их жизни. Сама структура нашего языка состоит в заговоре против понимания их мировоззрения.
Без сомнения, многие «истины», которыми обладали дописьменные народы были заведомо ложными, это утверждение легко сделать в наши дни. Но я собираюсь изложить доводы в пользу того, что их мировоззрение, особенно применительно к отношениям их сообществ с естественным миром, имели в своей основе здравый смысл, что особенно актуально для нашего времени. Я исследую их экологическую восприимчивость и пытаюсь показать, почему и каким образом она ухудшилась. И что более важно, я страстно желаю определить, какие аспекты этого мировоззрения могут быть восстановлены и интегрированы в наше собственное. Слияние их экологической восприимчивости с нашей, преимущественно аналитической, не создает никаких противоречий, это слияние выходит за пределы обеих восприимчивостей, переводя их в новый способ мышления и переживаний. Мы больше не сможем вернуться к их концептуальному «примитивизму», в то время, как они могли бы усвоить нашу аналитическую «заумь». Но, возможно, мы можем достичь образа мышления и переживаний, который включает в себя квази-анимистическую респиритизацию явлений, как неодушевленных так и одушевленных, не отказываясь от представлений, полученных благодаря науке и аналитическому мышлению.
Слияние органического, процессно-ориентированного мировоззрения с аналитическим было традиционной целью классической западной философии, начиная от досократовой и заканчивая Гегелем. Такая философия всегда была чем-то большим, нежели мировоззрение или просто метод обращения с действительностью. Она также была тем, что философы называют онтологией, описанием реальности, воспринимаемой не просто как материя, а как активная, самоорганизующаяся субстанция со стремлением к сознанию. Традиция превратила это онтологическое мировоззрение в своеобразные рамки, в которых мысль и материя, субъект и объект, рассудок и природа, примирены на новом спиритуализированнном уровне. Соответственно, я рассматриваю этот процессно-ориентированной взгляд на явления, как внутренне экологический в своем характере, и меня весьма озадачивает неспособность стольких диалектически ориентированных мыслителей увидеть удивительную совместимость между диалектическим и экологическим мировоззрениями.
Мое видение реальности как процесса может показаться несовершенным тем читателям, которые отрицают существование смысла и значения человечества в его естественном развитии. То, что я вижу «прогресс» в органической и социальной эволюции, будет вне всяких сомнений скептически рассматриваться поколением, которое ошибочно отождествляет «прогресс» с неограниченным материальным ростом. Я, например, не делаю этого отождествления. Возможно, моя проблема, если это можно так назвать, является свойством моего поколения. Я по-прежнему дорожу тем временем, когда стремились осветить ход событий, интерпретировать их и сделать их осмысленными. Когерентность — это мое любимое слово, оно решающим образом руководит всем, что я пишу и говорю. Кроме того, эта книга не излучает пессимизма, столь обычного для энвайронменталистской литературы. Так же, как я считаю, что прошлое имеет смысл, я считаю, что и будущее может иметь смысл. Если мы не можем быть уверены в том, что человеческое сословие будет прогрессировать, у нас есть возможность выбирать между утопической свободой и социальным жертвоприношением. В этом и заключается невозмутимыймессианский характер этой книги, характер философский и унаследованный от предков. «Принцип надежды», как назвал его Эрнст Блох, является частью всего того, что я ценю, отсюда мое отвращение к футуризму, настолько связавшему себя настоящим, что это сводит на нет будущность, отвергая все новое, что не является экстраполяцией существующего общества.
Я пытался избежать написания книги, которая пережевывает всевозможные мысли, касающиеся вопросов, возникающих на следующих страницах. Я бы не хотел подать эти мысли, как подготовленную к усвоению пассивным читателем кашку. Диалектическое напряжение, которое я ценю более всего, происходит между читателем книги и писателем: намеки, предположения, незавершенные мысли и стимулы, которые побуждают читателя думать самостоятельно. В эпоху, которая настолько быстротечна, было бы изрядной самонадеянностью представить готовые анализ и рецепты. Обязанностью серьезной работы я считаю, скорее, стимулирование диалектического и экологического мышления, в отличие от работы, которая так же «проста» и так «ясна», как и нераздельна, одним словом, так элитарна, что она не допускает, чтобы читателю пришлось искать уточнения и поправки в другом месте. Эта книга не является идеологической программой, это стимул к размышлениям, упорядоченный свод концепций, который читатель должен будет пройти до конца в уединении своего собственного ума.
[1] mea culpas (лат.) – дословно переводится как моя вина, моя ошибка, распространенно используется в качестве принесения извинений