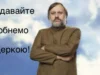Альтернативы постмодернизму? Политическое осмысление интеллектуальных тупиков
Постмодернизм угрожает не только либеральной демократии, но и модерности как таковой. Это может показаться слишком смелым утверждением или даже гиперболой, но в действительности совокупность базовых идей и ценностей постмодернизма давно уже вышла за рамки академического знания и приобрела в западном обществе огромный культурный вес. Иррациональные и идентитарные «симптомы» постмодернизма легко распознать и раскритиковать, но этос, лежащий в их основе, еще толком не осознан.
Причина этого, с одной стороны, в том, что постмодернисты редко изъясняются отчетливо, а с другой — в том, что противоречивость и непоследовательность имманентны их образу мышления, отрицающему существование стабильной реальности и достоверного знания. Но в основе постмодернизма лежит логически стройная система представлений, и важно прояснить их для себя, если мы намерены им противостоять. Эти представления — корень проблем, с которыми сталкиваются сегодня правозащитники; они подрывают доверие к левому движению и угрожают отбросить нас назад, к иррациональному и первобытному «домодерному» состоянию культуры.
Если говорить совсем просто, постмодернизм — это художественное и философское течение, зародившееся во Франции в 1960-е годы и подарившее миру обескураживающее искусство и еще более обескураживающую «теорию». Характерные для постмодернистов антиреализм и принципиальное неприятие цельного и гармоничного индивидуума были почерпнуты из авангардного и сюрреалистического искусства, а также из предшествующей философии — в особенности Ницше и Хайдеггера. Это была реакция сопротивления либеральному гуманизму художественных и интеллектуальных течений модернизма: апологеты постмодернизма упрекали модернистов в наивной универсализации опыта западных мужчин — представителей среднего класса.
Философия, заявлявшая в качестве ценностей этику, здравый смысл и ясность, отвергалась по тем же причинам. Структурализм — направление, которое (зачастую излишне самоуверенно) пыталось анализировать человеческую культуру и психологию, исходя из последовательных структур взаимоотношений, — был подвергнут резкой критике. Марксизм, рассматривающий общество сквозь призму классовых и экономических структур, также был объявлен чрезмерно упрощенным, лишенным требуемой гибкости.
Но в первую очередь постмодернисты ополчились на науку с ее целью обретения объективного знания о реальности, существующей независимо от человеческого восприятия: наука была для них не более чем еще одной формой сконструированной идеологии, в которой доминируют западные буржуазные предпосылки. Постмодернизм — безусловно, левое течение — располагал одновременно нигилистическим и революционным этосом, что резонировало с послевоенным постимпериалистическим духом времени на Западе.
По мере того как постмодернизм развивался и диверсифицировался, первостепенное значение приобрел его революционный аспект «политики идентичности», а первично более сильный нигилистический аспект деконструкции, оставаясь фундаментальным, отошел на второй план.
Сопротивляется ли постмодернизм модерности — спорный вопрос. К модерной эпохе относятся гуманизм Возрождения и Просвещение; это период, когда произошла революция в науке, когда были разработаны либеральные ценности и права человека; период, когда западные общества постепенно пришли к выводу, что разум и наука — более надежный путь к знанию, чем слепая вера и предрассудки; период, когда восприятие человека исключительно как члена того или иного коллектива, чья роль в общественной иерархии жестко фиксирована, сменилось концепцией личности, в которой каждый представитель человеческого вида уникален и наделен правами и свободами.
Британская энциклопедия сообщает, что постмодернизм — «в значительной степени реакция на философские посылки и ценности модерного периода западной (в особенности европейской) истории», а Стэнфордская философская энциклопедия возражает: «Скорее, его отличительные черты лежат в рамках самой модерности, и постмодернизм — это продолжение модерного мышления на иной лад». Рискну предположить: разница определений только в том, что для нас важнее в модерности — то, что она породила, или то, что она уничтожила. Если рассматривать суть модерности как развитие науки и разума, гуманизма и универсального либерализма, постмодернисты ей противостоят.
Если же рассматривать модерность как разрушение властных структур, таких как феодализм, Церковь, патриархат, империя, то постмодернисты стараются продолжать эту линию; при этом их мишенями оказываются наука, разум, гуманизм и либерализм. Следовательно, корни постмодернизма — изначально политические и революционные, хотя и в деструктивном, или, как выразились бы сами представители течения, «деконструктивном» ключе.
Термин «постмодерн» ввел Жан-Франсуа Лиотар в своей книге 1979 года «Состояние постмодерна». Он определяет состояние постмодерна как «недоверие метанарративам». Метанарратив — это широкомасштабное и связное объяснение крупных феноменов. Религии и прочие тотализирующие идеологии являются метанарративами, когда пытаются объяснить смысл жизни или все пороки общества. Лиотар ратовал за то, чтобы заменить их «мининарративами» и стремиться к постижению менее масштабных и более личных «истин». Под таким углом он рассматривал не только христианство или марксизм, но и фундаментальную науку.
С его точки зрения, «есть тесная взаимосвязь между тем языком, который мы называем научным, и тем, что мы называем этикой и политикой» (p. 8). Увязывая науку и полученное благодаря ей знание с правительством и властью, он оспаривает претензии науки на объективность. Лиотар объявляет такую недоверчивость постмодерна общечеловеческим свойством и утверждает, что с конца XIX века «внутренняя эрозия принципа легитимности знания» начала исподволь менять статус знания (p. 39).
Возникшие к 1960-м годам в результате этого процесса «сомнения» и «деморализация» ученых оказали сильное «влияние на центральную проблему легитимации» (p. 8). Сколько бы ученые ни твердили ему, что они отнюдь не деморализованы, а их сомнения не выходят за рамки приличествующих всякому Применяющему на практике метод, дающий лишь промежуточные результаты и оперирующий гипотезами, которые нельзя «доказать», поколебать его убежденность было невозможно.
У Лиотара мы видим явно выраженный гносеологический релятивизм (веру в личные или культурно-специфические истины или факты) и защиту приоритета «пережитого опыта» перед эмпирическими доказательствами. Мы также видим, что в продвигаемой им версии плюрализма точка зрения любого меньшинства приоритетна по сравнению с общим консенсусом ученых или либеральной демократической этикой, которые объявляются авторитарными и догматическими. Эти взгляды характерны для постмодернистской мысли в целом.
В трудах Мишеля Фуко также преобладает релятивизм и вопросы языка применены к истории и культуре. Фуко назвал свой подход «археологическим», поскольку полагал, что «расчищает» различные аспекты истории культуры от наслоений задокументированных дискурсов (изречений, продвигающих или разделяющих определенную точку зрения). Согласно Фуко, дискурсы контролируют то, что можно «познать»; тогда как сами эти дискурсы в разные периоды истории и в разных местах находятся под контролем различных систем институциональной власти. Таким образом, знание оказывается прямым продуктом власти. «В любой заданной культуре и в любой заданный момент всегда есть лишь одна “эпистема”, которая определяет, на каких условиях возможно знание, будь то выраженное в теории или же исподволь инвестированное в практику» [1].
Более того, люди сами по себе сконструированы культурой. «Человек со всеми его личностными характеристиками является продуктом отношений власти, примененных к телам, их потребностям, возможностям, влечениям, устремлениям» [2]. Он практически лишен самостоятельности. По словам Кристофера Батлера, Фуко «доверяет представлениям об изначальной порочности восприятия человека в контексте его класса или профессии, отвергая такой взгляд как “дискурс” независимо от нравственного или безнравственного поведения конкретного индивидуума» [3]. Он приравнивает современную либеральную демократию к средневековому феодализму по степени угнетающего воздействия и оправдывает жесткую критику любых институций, дабы разоблачить «политическое насилие, которое всегда неявно вершилось с их помощью» [4].
Фуко — пример крайнего культурного релятивизма, исходящего из того, что структуры власти неизбежно стирают любые проявления как индивидуального, так и общечеловеческого. Вместо этого люди оказываются — в зависимости от их положения в отношении доминирующих в культуре идей — либо угнетателями, либо угнетенными.
Джудит Батлер почерпнула многое у Фуко, когда учредила собственную квир-теорию, согласно которой гендер есть, прежде всего, культурный конструкт; теория постколониализма и «ориентализма» Эдварда Саида и «интерсекциональность» Кимберли Креншоу с ее пропагандой политики идентичности также развивают идеи Фуко. Мы также видим, что язык приравнивается к насилию и принуждению, а разум и всеобщий либерализм — к угнетению.
Концепцию «деконструкции» ввел Жак Деррида; он же поддерживал идею культурного конструктивизма и культурной и личностной относительности. Он еще более явно сосредоточился на проблеме языка. Самое известное высказывание Деррида: «Нет ничего вне текста», — то есть слова в принципе не могут иметь никакого простого и ясного означаемого. Наоборот, «есть только контексты, без какой-либо якорной зацепки» [5].
Таким образом, значение текста не подвластно автору. Читатель или слушатель волен вчитывать в текст собственные смыслы и равноправен в этом с автором; каждый текст «может порождать до бесконечности новые контексты, абсолютно не насыщаясь». Деррида ввел термин «различение» (différance), производный от глагола “differer”, означающего одновременно «откладывать» и «различать». Тем самым он определенно указал: окончательного смысла быть не может, смысл конструируется из различий — в частности, из оппозиций.
Слово «молодой» имеет смысл только относительно слова «старый», и, вслед за Соссюром, Деррида утверждал, что смысл возникает из конфликта этих элементарных противоположностей, причем для него они всегда образуют положительный и отрицательный полюсы. «Мужчина» есть нечто положительное, а «женщина» — нечто отрицательное. «Запад» есть плюс, а «Восток» есть минус. Он настаивал на том, что «мы имеем дело не с мирным сосуществованием антонимов, а, скорее, с насильственно внедренной иерархией. Один из двух терминов управляет другим (аксиологически, логически и т.д.), высказывает над ним превосходство.
Деконструировать оппозицию означает, прежде всего, свергнуть существующую в данный момент иерархию» [6]. Таким образом, деконструкция подразумевает опрокидывание этих выявленных иерархий: «женщина» или «Восток» объявляются чем-то положительным, а «мужчина» и «западное» — отрицательным. Причем, дабы подчеркнуть культурно сконструированную и произвольную природу такого конфликта неравных сил, делать это надлежит с иронией.
Мы видим, что Деррида усугубляет культурный и эпистемологический релятивизм и идет дальше предшественников в обосновании политики идентичности. Здесь заявлено открытое отрицание того, что различия могут быть иными, нежели бинарно-оппозиционные, — и, как следствие, отвержение таких ценностей Просвещения и либерализма, как преодоление разногласий и сосредоточение внимания на всеобщих правах человека, личной свободе и расширении полномочий индивидуума. Именно здесь корень «иронического мужененавистничества» и мантры «расизм меньшинства по отношению к большинству невозможен», а также той идеи, что рамки понимания навязываются идентичностью.
Мы также видим, как отвергается императив ясности речи и аргументации: ведь отрицается сама потребность понять точку зрения другого во избежание неправильных истолкований. Намерения говорящего несущественны — важно лишь впечатление, которое производит на слушателя его речь. Наряду с идеями Фуко, это лежит в основе нынешнего убеждения в глубоко разрушительном характере «микроагрессии» и неправильного использования терминологии, связанной с расой, гендером и сексуальной ориентацией.
У постмодернизма три «отца-основателя»: Лиотар, Фуко и Деррида, но у их философии много общих тем с другими влиятельными «теоретиками»; постмодернисты следующего поколения подхватили их идеи и стали применять ко все более широкому кругу социальных и гуманитарных дисциплин. Мы уже видели, что это означало пристальное внимание к языку на уровне каждого слова и ощущение, что смысл, вложенный в текст говорящим, менее важен по сравнению с тем, как сказанное им воспринято слушателем или читателем, сколь бы радикальной ни была интерпретация. И человечество в целом, и индивидуальность — по существу, иллюзии; люди оказываются пропагандистами или жертвами дискурсов, в зависимости от своего социального положения; причем положение человека, связанное с идентичностью, играет гораздо более важную роль, чем его индивидуальное взаимодействие с обществом.
Нравственность культурно относительна, как и сама реальность. Эмпирический опыт сомнителен и подвергается такому же подозрению, как и все доминирующие в культуре идеи, включая науку, разум и универсальный либерализм. Это ценности Просвещения: они наивны, связаны с недопустимым обобщением и угнетением; налицо моральная необходимость разрушить их. Гораздо более важны непосредственный опыт, нарративы и убеждения «маргинализованных» групп; все они равно «истинны», но теперь они должны получить приоритет перед ценностями Просвещения, дабы опрокинуть угнетающее, несправедливое и совершенно произвольное устройство социальной реальности, нравственности и знания.
Стремление нарушить статус-кво, оспорить общепринятые ценности и институции и поддержать маргинализованных людей вполне либерально по своему этическому посылу. Противостоять этому — означает впасть в крайний консерватизм. Такова историческая реальность, но мы находимся в исторически уникальной точке, где статус-кво вполне последовательно либерален; причем этот либерализм ставит во главу угла ценности свободы, равенства прав и возможностей для всех независимо от гендера, расы и сексуальной ориентации.
Результат — путаница: те, кто всю жизнь были либералами и хотят сохранить этот либеральный статус-кво, объявляются консерваторами; те же, кто хочет избежать консерватизма любой ценой, оказываются в рядах борцов с культурой и здравым смыслом. Если первые постмодернисты сталкивали дискурс с дискурсом, то активисты, мотивированные их философией, становятся все более авторитарными и доводят идеи отцов-основателей до логического предела. Свобода слова под угрозой, потому что сама речь стала опасной.
Настолько опасной, что люди, считающие себя либералами, теперь готовы оправдывать насилие в ответ на чужую речь. Потребность убедительно обсудить тот или иной казус, опираясь на доводы рассудка, теперь все чаще подменяется воззваниями к идентичности и беспримесной яростью.
Несмотря на все свидетельства того, что уровень дискриминации по гендерному признаку, гомофобии, трансфобии, ксенофобии и расизма в западных обществах низок, как никогда, правозащитники и ученые левых убеждений выказывают на этот счет фаталистический пессимизм, и это становится возможным из-за постмодернистских интерпретационных практик «чтения». Они как будто не замечают очевидной для всех остальных авторитарной власти постмодернистских ученых и активистов. Вот что пишет Эндрю Салливан об интерсекциональности:
«Постулируется классическая ортодоксия, с помощью которой объясняется весь человеческий опыт — и через которую должна быть просеяна вся речь. …Подобно пуританству, некогда весьма популярному в Новой Англии, интерсекциональность целиком берет под контроль и язык, и самые условия дискурса» [7].
Постмодернизм переродился в метанарратив Лиотара, фуколдианскую систему дискурсивной власти и дерридианскую репрессивную иерархию.
Указать постмодернистам на логическую проблему самозамкнутости постоянно пытались и пытаются самые различные философы, но им пока еще не удалось сделать это достаточно убедительно. Как пишет Кристофер Батлер, «справедливость заявления Лиотара об упадке метанарративов в конце XX века по большому счету культурно обусловлена тем, что он адресуется интеллектуальному меньшинству». Иными словами, претензия Лиотара происходит непосредственно из дискурсов узкого буржуазно-академического круга, к которому он принадлежит, и, по сути, претензия эта сама по себе является метанарративом; причем усомниться в этом метанарративе ему почему-то не приходит в голову.
Аналогично, утверждение Фуко о том, что знание исторически обусловлено, само по себе должно быть исторически обусловлено; и непонятно, зачем Деррида так долго и нудно рассуждал о бесконечной податливости текстов, раз теперь я могу прочесть полное собрание его сочинений и заявить, что оно посвящено кролиководству, причем мое суждение будет ничуть не менее авторитетно, чем позиция автора.
Конечно же, это не единственное направление критики постмодернизма. Внимание философов и ученых обращает на себя острейшая проблема эпистемологического культурного релятивизма. Философ Дэвид Детмер пишет в своем «Опровержении постмодернизма»:
«Рассмотрим пример, приведенный Эразимом Коаком: “Если у меня не получается засунуть теннисный мяч в горлышко винной бутылки, мне не придет в голову повторять этот опыт с несколькими разными винными бутылками и теннисными мячами до тех пор, пока, используя закон индукции Милля, я не приду к выводу, что теннисные мячи не влезают в винные бутылки”…Не пора ли нам встать с головы на ноги [в том, что касается постмодернистских претензий на культурную относительность] и задаться вопросом: “Если я утверждаю, что теннисные мячи не влезают в винные бутылки, не могли бы вы объяснить, как именно мой гендер, класс, этническая принадлежность, мое положение в пространстве и времени и т.д. могут поставить под сомнение объективность этого утверждения?”» [8]
Однако ему так и не удалось найти постмодернистов, готовых внятно аргументировать свои позиции. Он вспоминает о своем поразительном разговоре с философом-постмодернистом Лори Калхун:
«Когда я улучил момент спросить у нее, справедлив ли тот факт, что жирафы выше муравьев, она ответила, что это не факт, а, скорее, присущая нашей культуре разновидность религиозного верования».
Физики Ален Сокал и Жан Брикмон обращаются к той же проблеме с точки зрения фундаментальной науки в своей книге «Модная чушь: злоупотребление наукой у интеллектуалов-постмодернистов» [в русском переводе она озаглавлена менее резко: «Интеллектуальные уловки: критика современной философии постмодерна», но конкретно этих цитат в русской версии найти не удалось. — Прим. пер.]:
«Кто сейчас станет на полном серьезе отрицать “большой нарратив” эволюции, кроме сторонников гораздо менее правдоподобного большого нарратива, а именно теории креационизма? И кому придет в голову ставить под сомнение основные законы физики? Ответ – “некоторым постмодернистам”».
И далее:
«Есть нечто весьма странное в утверждении, что, отыскивая, скажем, причинно-следственные связи, или создавая теорию великого объединения, или задаваясь вопросом, действительно ли атомы подчиняются законам квантовой механики, ученые занимаются чем-то “буржуазным”, “европоцентричным”, “маскулистским” или даже “милитаристским”».
Но действительно ли постмодернизм — угроза для науки? На науку уже идут нападки извне. Во время недавних протестов против выступления Чарльза Мюррея в Миддлбери демонстранты в едином порыве скандировали:
«Науку всегда использовали для узаконивания расизма, сексизма, классового неравенства, трансфобии, эйблизма [притеснение лиц с физическими недостатками. — Прим. ред.] и гомофобии: неравенство объявлялось объективной данностью и поддерживалось правительством и государством. В этом мире и сейчас очень мало достоверных “фактов”» [9].
Когда организаторы «Марша за науку» написали в Твиттере:
«Колонизация, расизм, иммиграция, национальные права, сексизм, эйблизм, квир-транс-би-фобия и экономическая справедливость являются научными проблемами» [10], — многие ученые моментально раскритиковали эту политизацию науки и смещение фокуса с проблемы сохранения науки в сторону интерсекциональной идеологии. В Южной Африке прогрессивные студенческие движения #ScienceMustFall («наука должна быть повержена») и #DecolonizeScience («деколонизируй науку») объявили, что наука — лишь один из методов познания, навязанный людям. В качестве альтернативы они предложили магические практики [11].
Невзирая на все нападки, научный подход принципиально не меняется. Его невозможно «адаптировать» так, чтобы он включал в себя эпистемологический релятивизм и «альтернативные методы познания». Но научный подход может утратить доверие населения, а вслед за этим — государственное финансирование, и эту угрозу не стоит недооценивать. Во времена, когда сильные мира сего ставят под сомнение климатические изменения, родители верят в то, что прививки приводят к аутизму у детей, а больные обращаются к гомеопатам и натуропатам в поисках решения серьезных медицинских проблем, дальнейший подрыв доверия к фундаментальной науке угрожает уже самому существованию человеческого рода.
При этом общественные и гуманитарные дисциплины могут измениться до неузнаваемости. Более того, некоторые общественные науки уже изменились. Культурная антропология, социология, культурология и гендерные исследования, к примеру, уже полностью сдались на милость не только моральному, но и эпистемологическому релятивизму. Английскую литературу также, по моему опыту, преподают глубоко в русле ортодоксального постмодернизма. Философы, как мы уже видели, все разошлись во мнениях, равно как и историки.
Сторонники эмпирического подхода в истории часто подвергаются атакам историков-постмодернистов за то, что якобы слишком твердо уверены в точности собственных знаний о прошлом. Кристофер Батлер вспоминает, как Диана Перкисс обвинила Кита Томаса в утверждении мифа о том, что историческая идентичность мужчин базируется на «бессилии и бесправии женщин», когда он привел убедительные доказательства тому, что во времена охоты на ведьм в колдовстве обычно обвиняли беспомощных нищенок.
Видимо, ему следовало пойти против фактов и заявить, что они были обеспеченными женщинами, а еще лучше — мужчинами. Как говорит Батлер, «такое впечатление, что эмпирические утверждения Томаса просто натолкнулись на конкурирующий принцип исторического повествования, присущий Перкисс, а именно: историю следует использовать для поддержания современных представлений о расширении женских прав и свобод» (p. 36).
Мне и самой довелось встретиться со схожей проблемой при попытке описать роль расы и гендера на рубеже XVI–XVII веков. Я утверждала, что зрителям шекспировских пьес не должна была показаться такой уж странной любовь Дездемоны к черному Отелло, который был христианином и служил в венецианской армии, поскольку расовые предрассудки получили распространение позже, ближе к середине XVII века, когда набрала размах атлантическая работорговля, а для современников Шекспира куда важнее были религиозные и национальные различия.
Выдающийся профессор возразил, что это весьма спорно, и спросил, как бы отнеслось к моим утверждениям современное афроамериканское сообщество. Подразумевалось, что если сегодняшним афроамериканцам это неприятно, значит в XVII веке либо такого не могло быть, либо упоминать об этом безнравственно. Как говорит Кристофер Батлер, «согласно постмодернистской теории, культура содержит множество перманентно конкурирующих повествований, чья убедительность зависит не столько от независимой, беспристрастной оценки, сколько от их популярности в сообществах, где они циркулируют».
Я опасаюсь за будущее гуманитарных наук.
Более того, постмодернизм опасен не только для академических и правозащитных кругов. Релятивистские идеи, чувствительность к языку и приоритет идентичности перед общечеловеческим, равно как и индивидуальным, получили в обществе гораздо более широкое распространение, чем нам кажется. Намного проще ссылаться на собственные ощущения, чем придерживаться строгой доказательности. Свобода «интерпретировать» реальность в соответствии с собственными ценностями, по сути, подпитывает извечную человеческую предвзятость и склонность выискивать подтверждения готовой собственной точке зрения.
Наблюдение, что крайне правые, по сути, переняли у левых постмодернистов инструментарий политики идентичности и эпистемологического релятивизма, стало уже общим местом. Разумеется, крайне правым всегда было свойственно сеять распри на почве расы, гендера и сексуальной ориентации и они изначально придерживались иррациональных и антинаучных взглядов, — однако постмодернизм породил культуру, более восприимчивую к подобным веяниям. Вот как пишет об этом сдвиге в культурном сознании Кенан Малик:
«Когда выше я говорил, что идея “альтернативных фактов” опирается на “набор понятий, которые в последние десятилетия нашли применение у радикалов”, я не имел в виду, что Келлиэнн Конуэй, или Стив Бэннон, или тем более Дональд Трамп специально изучали Фуко или Бодрийяра… Скорее, общие усилия части академических ученых и левых интеллектуалов создали в последние десятилетия культуру, в которой относительность взглядов на факты и знания не вызывает протеста, благодаря чему правые реакционеры мало того что заново утвердились в своих отсталых убеждениях, но еще и принялись их активно распространять» [12].
Этот «набор понятий» угрожает вновь отбросить нас в эпоху, предшествовавшую Просвещению, когда «разум» не просто ставили ниже веры, но считали греховным. Джеймс К.А. Смит, протестантский теолог и профессор философии, сразу вычислил, насколько выгодно это для христианства, и провозгласил постмодернизм «свежим ветром Духа, посланным для оживления сухих костей Церкви» (p. 18). В своей книге «Кто боится постмодернизма? Деррида, Лиотар и Фуко для Церкви» он говорит:
«Вдумчивый взгляд на постмодернизм побуждает нас оглянуться назад. Мы увидим, что многое из того, что проходит сейчас под эгидой постмодернистской философии, напряженно подглядывает в античные и средневековые источники и, тем самым, в значительной степени возрождает домодерные способы познания, бытия и делания» (p. 25), а также:
«Постмодернизм может стать катализатором для возрождения в Церкви веры не как системы истин, продиктованных безучастным разумом, а скорее как истории, которую лишь “имеющий очи да увидит, имеющий уши да услышит”» (p. 125).
У нас, левых, должно вызывать серьезные опасения то, что порождено «нашими сторонниками». Разумеется, не все нынешние общественные проблемы — результат постмодернистского мышления; и обвинять его во всем подряд было бы непродуктивно. Подъем популизма и национализма в США и по всей Европе связан также с усилением крайне правых, с общим страхом перед исламизмом, порожденным кризисом, связанным с наплывом беженцев. В жесткой антиправозащитной позиции и обвинении левых во всех грехах тоже мало рационального и много предвзятости.
Левые не несут ответственности за убеждения крайне правых, за религиозный фундаментализм или светский национализм, но они ответственны за то, что вовремя не уделили должного внимания тревожным вопросам, и поэтому теперь им труднее заручиться поддержкой разумных людей. Левые несут ответственность за собственную разобщенность, взаимные упреки и призывы отделить агнцев от козлищ, за распри, на фоне которых даже крайне правые выглядят относительно последовательными и сплоченными.
Чтобы вновь завоевать доверие общества, левым нужно вернуться к сильному, последовательному и разумному либерализму. Для этого необходимо переспорить левых постмодернистов. Нам нужно противопоставить их оппозициям, разобщенности и иерархичности универсальные принципы свободы, равенства и справедливости. Мы должны последовательно держаться либеральных принципов, противодействуя любым попыткам оценивать людей или ущемлять их права по признакам расы, гендера или сексуальной ориентации.
Нужно пристально анализировать проблемы, связанные с иммиграцией, глобализмом и авторитарной политикой идентичности, которые в настоящее время на руку крайне правым, а не навешивать на людей, озвучивающих эти проблемы, ярлыки «расистов», «сексистов» или «гомофобов»; не обвинять их в намерении совершить вербальное насилие. И параллельно необходимо продолжать борьбу с авторитарными правыми фракциями, которым действительно присущи расизм, сексизм и гомофобия, но теперь они прячутся за пристойным фасадом противостояния левым постмодернистам.
Наш нынешний кризис не в том, что левые борются с правыми, а в том, что солидарность, здравый смысл, скромность и универсальный либерализм противостоят непоследовательности, иррационализму, фанатизму и первобытному авторитаризму. Будущее свободы, равенства и справедливости находится под угрозой — независимо от того, победит ли в текущей войне левый постмодернизм или правая «постправда». Все зависит от тех из нас, кто ценит либеральную демократию, плоды Просвещения и научной революции. Наша задача — предложить достойную альтернативу. Мы в ответе за современность.
Примечания
↑1. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Routledge, 2011. P. 183.
↑2. About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth // Political Theory. No. 21. P. 198–227.
↑3. Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2002. P. 49.
↑4. The Chomsky – Foucault Debate: On Human Nature. The New Press, 2006. P. 41.
↑5. http://hydra.humanities.uci.edu/derrida/sec.html; русский текст: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/podp.php
↑6. Positions. University of Chicago Press, 1981. P. 41.
↑7. http://hotair.com/archives/2017/03/10/is-intersectionality-a-religion/
↑8. Challenging Postmodernism: Philosophy and the Politics of Truth. Prometheus Press, 2003. P. 26.
↑9. Цит. по статье Салливана: http://hotair.com/archives/2017/03/10/is-intersectionality-a-religion/
↑10. http://dailycaller.com/2017/01/30/anti-trump-march-for-science-maintains-that-racism-ableism-and-native-rights-are-scientific-issues/#ixzz4bPD4TA1o
↑11. http://blogs.spectator.co.uk/2016/10/science-must-fall-time-decolonise-science/
↑12. https://kenanmalik.wordpress.com/2017/02/05/not-post-truth-as-too-many-truths/

Источник: Areo Magazine
Перевод: gefter