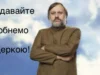Публикуем перевод текста Юка Хуэя «О несчастном сознании неореакционеров», где он рассуждает о неореакции, глобальных процессах и старом-новоммеркантилизме.
Текст впервые опубликован в e‑flux journal #81 (April 2017). Изображения — постеры с сайта HestiaSociety.org, иллюстрирующие неореакционные изречения как альтернативу республиканской и демократической идеологии.
1. Закат Запада… опять?
В 2004 году в докладе, подготовленном для конференции «Политика и апокалипсис», посвященной французскому теоретику и антропологу Рене Жирару, Питер Тиль заявил, что террористические акты 11 сентября 2001 года обозначили провал наследия эпохи Просвещения. Западу была необходима новая политическая теория, которая спасла бы от нового мирового порядка, открытого «глобальному терроризму», «действовавшему по ту сторону всех норм либерального Запада» [1]. Допуская заранее, что Запад воплощал учения и ценности демократии и равенства, Тиль поспешил утверждать, что именно они сделали Запад уязвимым.
Подобные убеждения об устаревании Просвещения характеризуют основное отношение неореакции, главными представителями которой являются Мэн-цзы Мольдбаг (псевдоним Кёртиса Ярвина, компьютерного инженера из Кремниевой долины и стартап-предпринимателя) и британский философ Ник Ланд. Если Тиль — это король, то они — его рыцари, защищающие некоторые сообщества, существующие вокруг сайтов Reddit и 4Chan. Нельзя сказать, что этих троих ничего не связывает между собой. Последние десять лет блог Мольдбага Безоговорочные оговорки был источником вдохновения для Ланда, а его стартап Tlon финансирует Тиль, известный венчурный предприниматель, основатель PayPal и Palantir и член команды переходного периода Дональда Трампа.
Основной продукт компании Tlon под названием Urbit предлагает новый протокол, отличный от централизованной клиент-серверной структуры, в настоящее время доминирующей в сетях, и допускающий децентрализацию, основанную на персональных облачных вычислениях — так называемую постсингулярную операционную систему. Задача неореакции, кажется, удачно сформулирована в вопросе, который Тиль поднимает ближе к концу своей статьи: «Современный Запад утратил веру в себя. В эпоху Просвещения и постпросвещения это разуверение высвободило огромные коммерческие и творческие ресурсы. В то же время, утратив веру в себя, Запад стал уязвимым. Есть ли способ укрепить позиции современного Запада, не разрушив его целиком, существует ли способ не выплеснуть ребенка из ванны вместе с водой? [2]
Я думаю, что вопрос Тиля иллюстрирует состояние, которое Гегель когда-то описал как «несчастное сознание»; эта концепция полезна для понимания неореакции [3]. Так как по Гегелю история — это длинная цепочка необходимых движений Духа на пути к абсолютному самосознанию, на пути которой существует множество промежуточных остановок или стояний — например, от иудаизма к христианству и так далее. Несчастное сознание — это трагический момент, когда сознание признает противоречие, лежащее в основе его ранее блаженной, даже комедийной природы. То, что самосознание полагало завершенным и цельным, оказывается расколотым и незавершенным.
Оно сознает другого себя как противоречие, одновременно с этим не зная, как его преодолеть. Гегель пишет: «Это несчастное сознание составляет противовес и довершение внутренне (in sich) совершенно счастливого, комического сознания. <…> Несчастное сознание, напротив того, есть трагическая судьба достоверности себя самого, долженствующей быть в себе и для себя. Оно есть сознание потери всей существенности в этой достоверности себя и потери именно этого знания о себе. <…> Оно есть скорбь, которая выражается в жестоких словах, что бог умер» [4].
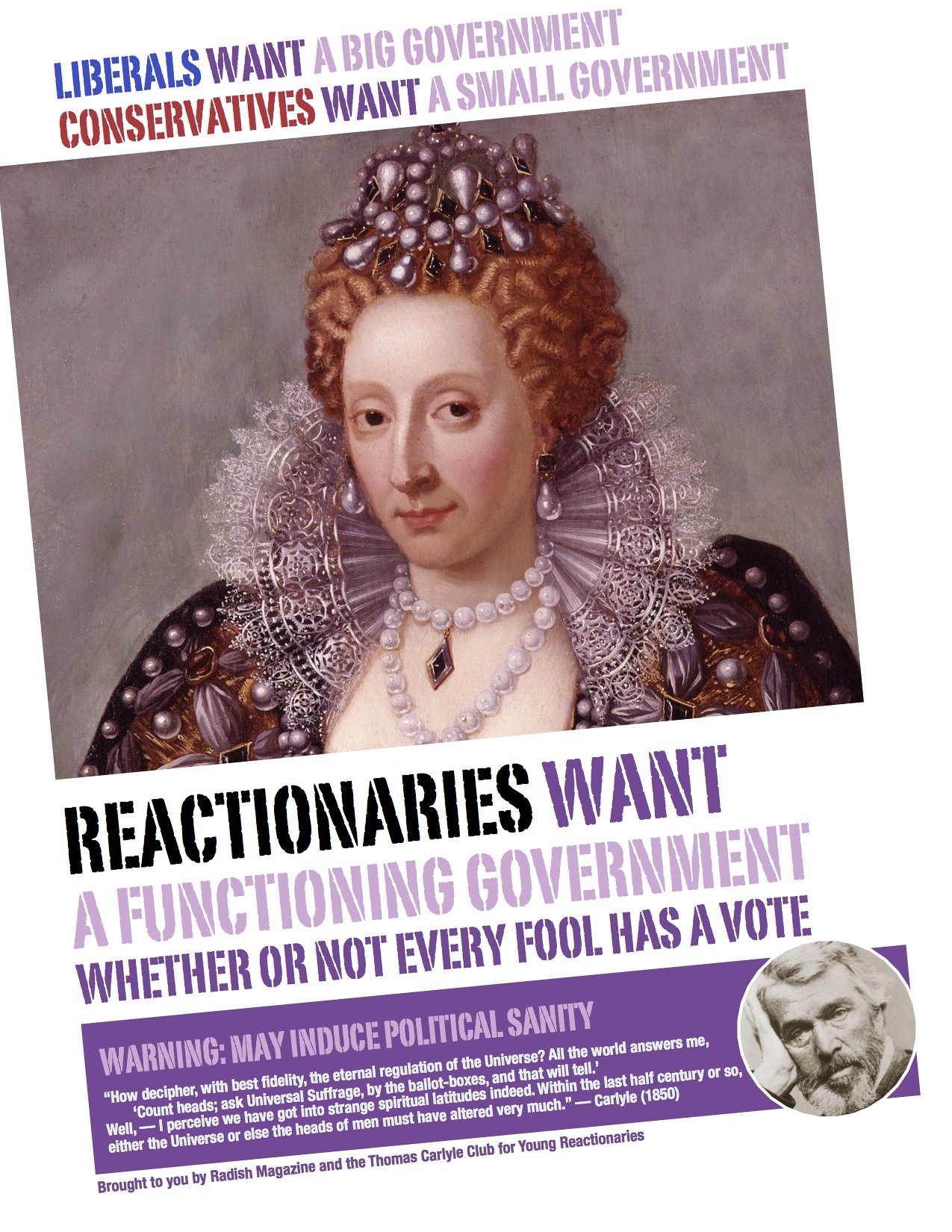
Обращение Гегеля к аффективному языку горя неслучайно, потому что в несчастном сознании, как подразумевает само это сочетание слов, властвуют и преобладают чувства, которых оно неспособно избежать. В иудаизме, по утверждению Гегеля, развивается дуальность крайностей, в которой сущность находится по ту сторону существования, а бог располагается вне человека, бросив его в несущественном. В христианстве единство непреложного и определенного выражается через фигуру Христа как воплощенного бога; однако такое единство остается ощущением без размышления [5]. Несчастное сознание ощущает, не понимая, участие всеобщего в частном, оставляя эту противоречивую двойственность непреодолимой, поскольку это все еще только чувство, а не понятие.
Как поясняет Жан Ипполит: «Объект несчастного сознания <…> является единством непреложного и определенного. Но несчастное сознание не относится к своей сущности посредством мысли, это ощущение этого единства, но еще не его концепт. По этой причине его сущность остается чуждой ему <…> Чувство божественного, которое есть у этого сознания — это расколотое ощущение, именно потому, что это всего лишь чувство» [6].
Для неореакционеров Просвещение вообще — и демократия в частности — проявляется как отчужденный от себя другой. Это одновременно лекарство и яд или точнее фармакон в греческом смысле. Однако сознание противоречия остается ощущением, и попытки избежать этого ощущения открывают патологический путь вглубь меланхолии или иллюзорной бездны schwärmerei спекулятивного мышления. Тиль ссылается на работу Освальда Шпенглера «Закат Европы» для того чтобы описать это противоречивое «я» и назвать события 11 сентября 2001 года решительным предупреждением о нем.
В работе «Годы решений» Шпенглер связывал это беспокойное чувство с «прусским духом», в котором он видел «спасение белой расы»: «Кельтско-германская “раса” обладает самой сильной волей из всех известных в мире. Но это “я желаю” — Я желаю! <…> пробуждает сознание полнейшего одиночества Я в бесконечном пространстве. В конце концов, воля и одиночество являются одним и тем же. <…> Если в мире и есть индивидуализм, так это сопротивление одиночки всему миру, понимание своей несгибаемой воли, радость от последних решений и любовь к судьбе <…> Прусский стиль — это подчинение по собственной воле» [7].
Определенно легко счесть неореакционное представление о предполагаемом упадке Запада повторением знакомых исторических моментов, таких как нападки на радикальное Просвещение к концу восемнадцатого столетия и появление в Германии в период между Первой и Второй мировыми войнами реакционного модернизма, объединившего романтизм с технологией и в итоге слившегося с национал-социализмом. Важно помнить об этом повторении для того, чтобы понять тактику и риторику, используемую неореакционерами — осознают или нет они эту историю — хотя бы для того, чтобы уяснить, что для них сегодня представляет собой упадок Запада и почему Просвещение кажется им источником такого несчастья [8]. Если неореакционеры отвергают Просвещение, то это отвержение странного и особого рода.
2. Ссоры Просвещения
После событий 11 сентября Тиль предвидел усиление мер безопасности в аэропортах США и более пристрастный досмотр иммигрантов. Эта политика стала особенно интенсивной в введенном администрацией Дональда Трампа запрете на въезд — продукте «американской демократии», ошеломившем даже Фрэнсиса Фукуяму, который недавно заметил, как настоящий гегельянец, что «двадцать лет назад понимания или теории относительно того, как демократия может откатиться назад, у меня не было» [9].
Однако вопрос выходит далеко за рамки американской демократии: «чрезвычайное положение», термин, используемый для описания чрезвычайных мер вроде запрета на въезд, становится совершенно банальным, когда Трамп, напоминая абсолютистских монархов шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого столетий, осуществляет то, что перестает быть исключением, а превращается в рутинную власть государя. Возвращение к монархии, подхваченное неореакционерами, наступает на ценности демократии и равенства Просвещения, понимаемые как, соответственно, вырожденческие и ограниченные.
В серии блоговых записей с названием «Темное Просвещение», ставших с тех пор чем-то вроде неореакционной классики, британский философ Ник Ланд воспевал господ Мольдбага и Тиля за то, что они искренне признают этих богов мертвыми. На их месте мы находим бога свободы, наследие которого не лишено светлых участков.
Ланд ссылается на эссе Тиля «Воспитание либертарианца» 2009 года с его широко известным заявлением: «Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы» [10]. А что означает несовместимость демократии и свободы? Тиль утверждал, что либертарианцы ошибались, думая, что свобода может быть достигнута посредством политики (демократии), когда единственный способ реализовать либертарианский проект лежит через капитализм, опережающий политику посредством экстенсивного освоения киберпространства, космического пространства и океанов.
Демократия — это то, что мешает реализации свободы, пишет Ланд, полагая, что демократия есть просто миф Просвещения: «В европейской классической античности демократия считалась известной стадией циклического политического развития, фундаментально упадочнического по своей природе, и шагом перед скатыванием в тиранию. Сегодня это классическое понимание полностью утеряно, его заменила полностью лишенная критической саморефлексии глобальная демократическая идеология, которая утверждается не как надежный тезис общественных наук, и даже не как спонтанное народное чаяние, а, скорее, как религиозное вероучение особого, исторически опознаваемого рода» [11].
Ланд и Мольдбаг также поднимают вопрос об альтернативах, который, в духе Тиля, требует «восстановления от демократии так же, как Восточная Европа видит себя оправляющейся от коммунизма». В «Открытом письме к прогрессивным широких взглядов» Мольдбаг излагает свою собственную траекторию от прогрессивного до якобита [12]. Он отвергнул политкорректность и вежливость прогрессивных, предлагая адаптировать Гитлера и реакционную мысль фашизма.
Политкорректность — это форма критики идеологии, происходящая от радикально левого мышления о том, что происходит, когда идеи и практики институционализируются. Только в «Соборе» этика и догма пересекаются. Но в то время, как для неакадемических левых эта догма неэффективна и благожелательна, для неореакционеров она представляет собой экзистенциальную угрозу; политкорректность становится токсичной угрозой Западной Цивилизации.
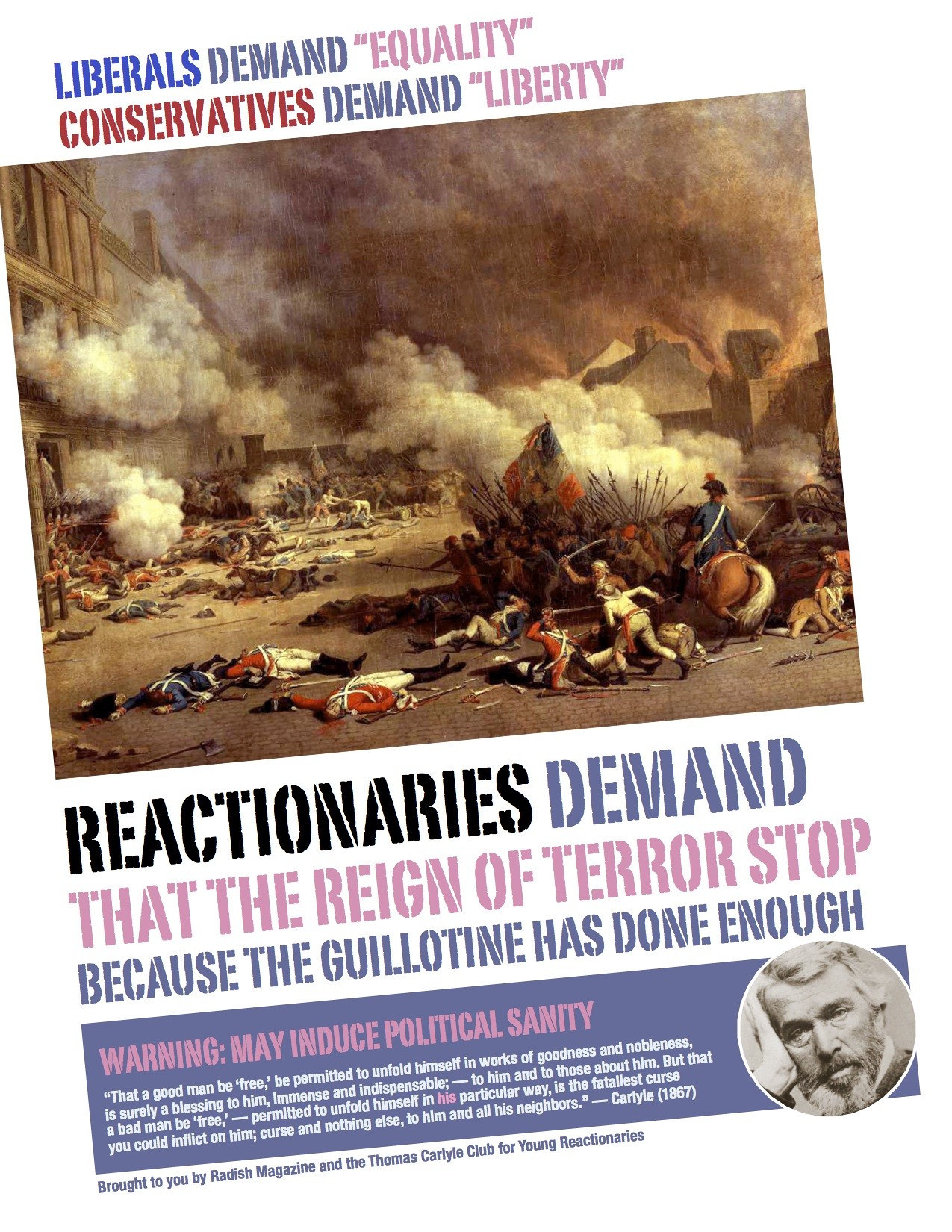
Эта ссора из–за Просвещения перекликается с дебатами, полыхавшими во времена европейского Просвещения. По одну сторону были радикальные мыслители, такие как Дидро, Гольбах, Пейн, Джефферсон и Пристли — философы и унитарии, выступавшие против церкви и монархии, видевшие в прогрессе разума реализацию универсализма. По другую сторону были более умеренные мыслители Просвещения, такие как Фергюсон, Юм и Берк, отстаивавшие монархически-аристократический порядок общества [13]. Просвещение, похоже, не было изначально привержено демократии. Напротив, этот вопрос оспаривался с самого начала.
Частые отсылки Мольдбага к камерализму Фридриха Великого драматизируют эту ссору, демонстрируя смешанные чувства несчастного сознания. С одной стороны, Мольдбаг, называя себя якобитом, защищает божественное право монархов и предлагает новый камерализм, рассматривающий государство как предприятие — это видение явно импонирует администрации Трампа. С другой стороны, он обходит тот факт, что Просвещение было практически личной маркой Старого Фрица — Фридрих не только отрицал божественное право монархов в пользу теории общественного договора, он также был автором знаменитых эссе о «просвещенной монархии» и высказывания «мое основное занятие — сопротивляться невежеству и предрассудкам <…> и просвещать умы, развивать нравственность и делать людей такими же счастливыми, насколько это соответствует человеческой природе, и насколько позволяют подручные мне средства».
Он даже укрывал Вольтера, когда у того возникли проблемы с церковью. И, само собой разумеется, ясно, что неореакционеры видят себя как те же современные Вольтеры, сражающиеся с сегодняшней церковью политкорректности — тем, что Мольдбаг называет «Собором» (т.е. the Cathedral — Кафедрой). Следовательно, несчастное сознание застряло между принятием противоречий Просвещения и их преодолением: для неореакционеров Просвещение дало, Просвещение и взяло. Выраженный признак этого недуга — безжалостная ирония, как подмечает Ланд: «Без вкуса к иронии Мэн-цзы Мольдбаг почти невыносим, и, безусловно, непонятен. Обширные построения исторической иронии формируют его труды, порой даже поглощая их. Как иначе мог бы сторонник традиционных конфигураций общественного порядка — самопровозглашенный якобит — сочинить корпус работ, столь настырно приверженный подрыву?»
Но именно это противоречие делает сознание неореакционеров столь несчастным, поскольку Ланд и Мольдбаг позволяют чувствам горя и утраты взять верх над сложными протоколами разума, которые они тем не менее цитируют с навязчивостью, достойной Фрейда. Мольдбаг жаждет авторитаризма якобитов вместе с политэкономией Вигов, и если это не имеет смысла, то жаль, потому что велик шанс, что где-то в интернете над кем-то издевается Собор. Ланд по крайней мере, будучи заслуженным ветераном университета, сообразил, как не увязнуть в утомительных вопросах исторической точности, так что по ходу «Темного Просвещения» можно почти почувствовать его незаметный отход от Мольдбага.
После попугайничающего повтора немного шаблонного либертарианского катехизиса Ланд быстро переходит к своей реальной цели: разоблачению противоречивого сознания современных прогрессивных блогеров, безусловно полной мишеней среды, хоть она и намного легче его весовой категории как мыслителя. Здесь важно, что Ланд переворачивает последовательность: обратив критику радикальных философов в адрес монархического Просвещения против них самих, он хитроумно обвиняет радикальное Просвещение.
Оно разыгрывается, следуя Мольдбагу, предполагаемым универсализмом радикального протестантизма — полное лицемерия и противоречия, следуя его собственным жесту и сценарию: «При этом рассмотрении то, что считается Всеобщим разумом, определяющим направление и смысл современности, раскрывается как скрупулезно определенная разновидность или подвид культистской традиции, происходящей от сектантов-“рентеров”, “уравнителей” и близко связанных с ним типов диссидентского, ультрапротестантского фанатизма, и имеет ничтожно мало общего с выводами логиков».
Это нападение на социал-демократическую политику как следствие институционализации Просвещения на самом деле является возвратом к консервативным мыслителям самого Просвещения: отрицанием отрицания. Ланд воплощает возврат вытесненного одновременно с тем, как сам предупреждает против него: «Основной темой был контроль над сознанием или подавление мысли, о чем явствует из СМИ-Университетского комплекса, главенствующего в современных западных обществах, который Мэн-цзы Мольдбаг называет Собором. Когда что-то вытесняется, оно редко исчезает. Вместо этого оно смещается, скрываясь в служащей убежищем тени и иногда превращаясь в чудовищ. Сегодня, когда подавляющая ортодоксия Собора различными способами и во многих смыслах расшатывается, приходит время чудовищ».
Такие хитросплетения являются одной из причин, по которой осуждать неореакционеров в качестве расистов было бы слишком просто, хотя, вероятно, большинство из них ими являются. Их отрицание Просвещения происходит из «самосознания», еще не принявшего единой концепции его противоречия. Вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу с непростым фактом того, что их бог никогда не существовал, неореакционеры намерены пытаться убить Его, саботируя Собор и следуя полной детерриториализации. Воля к столь радикальным переменам оставляет их в иллюзии о красивой сказке по ту сторону мира и о замысловатых гипотезах о сверхразуме, который спасет человечество от политики.
Например, когда Ланд воспевает азиатские города, такие как Шанхай, Гонконг и Сингапур, он просто отстраненно наблюдает за этими местами, проецируя на них общую волю принести политику в жертву производительности. Политическая усталость часто заставляет Запад тянуться к обещанию Восточной Азии деполитизированной технокоммерческой утопии; синофутуризм становится образцом радикальных перемен. Под «синофутуризмом» мы подразумеваем представление о том, что Китай смог без сопротивления импортировать западную науку и технологию, тогда как на Западе продолжает жить представление о том, что любое существенное технологическое изобретение или научное открытие всегда будет ограничено и замедлено политкорректностью Собора.
Неудивительно, что Милтон Фридман, считавший Гонконг неолиберальным экономическим экспериментом, задуманным им самим и шотландцем Джоном Коупертвейтом (министром финансов Гонконга в 1960‑х годах), сделал такое же наблюдение, заявляя в своем эссе «Гонконгский эксперимент», что экономика Гонконга опередила экономику США благодаря своей способности функционировать без каких-либо «политических капризов» [14].
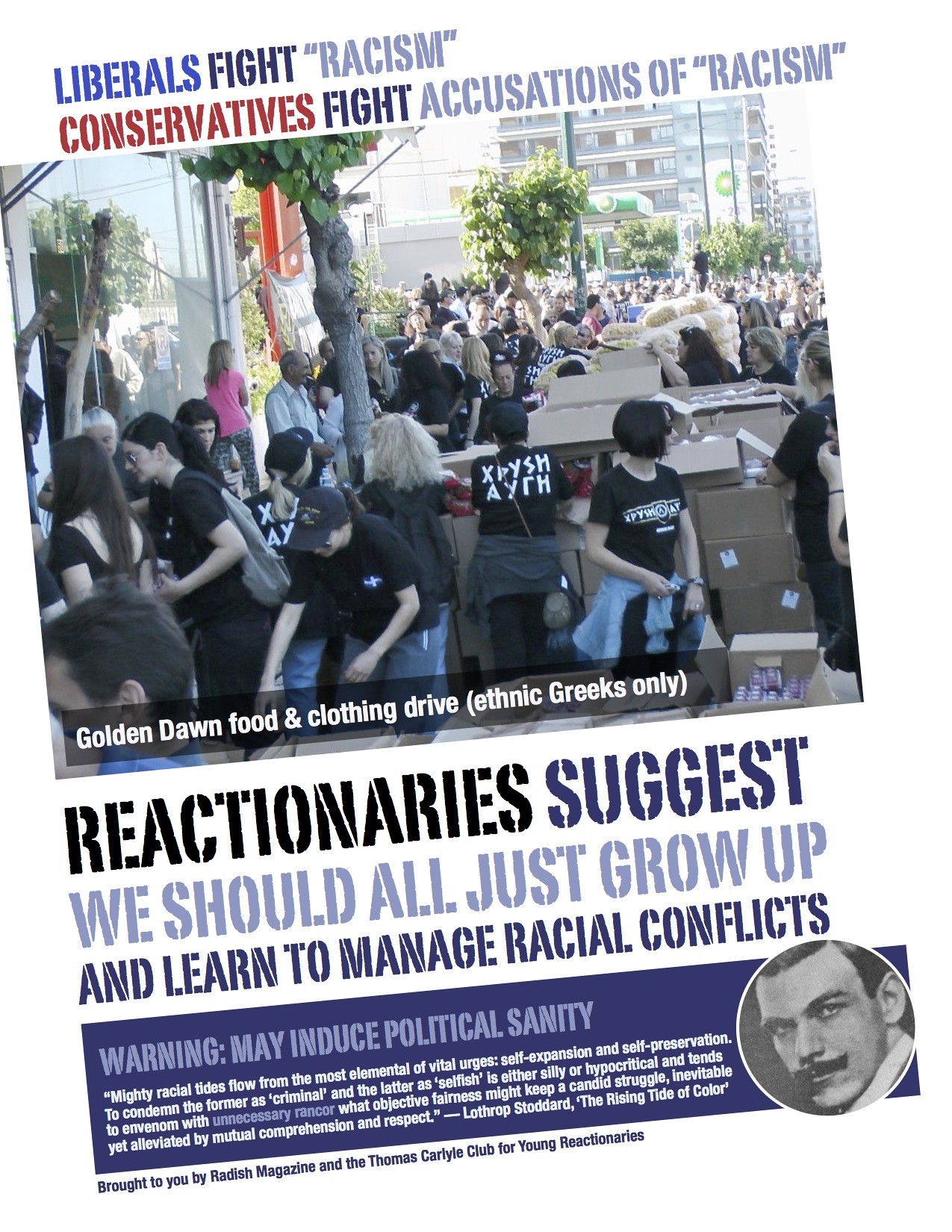
Это стремление к производительности согласуется с неолиберальной предпосылкой: для спасения Запада необходима технокоммерческая деполитизация. Но от чего? Я склонен полагать, что подъем неореакционеров свидетельствует о провале универсализации qua глобализации со времен Просвещения, но по намного более нюансированной причине. Для неореакционеров равенство, демократия и свобода, предложенные Просвещением, и их универсализация привели к непродуктивной политике, которая характеризуется политкорректностью. Поэтому необходимо «принять красную таблетку», чтобы отказаться от этих чаяний в поисках другой конфигурации, будь она замаскированно политической или аполитичной по существу. Неореакционное мышление как несчастное сознание — это протест перед лицом диалектического преобразования глобализации.
3. Неореакционное несчастное сознание
Вне зависимости от того, к какой христианской секте мы его относим, универсализм остается западным интеллектуальным продуктом. В реальности не было универсализма (по крайней мере, пока), только универсализация (или синхронизация) — процесс модернизации, который стал возможен благодаря глобализации и колонизации. Это создает проблемы как для правых, так и для левых, что крайне затрудняет сведение политики к традиционной дихотомии. Рефлексивная модернизация, описанная видными социологами в двадцатом столетии как переход от ранней современности национального государства ко второй современности, характеризуемой рефлексивностью, с самого начала кажется сомнительной.
Рефлексивность, опираясь на «повышенное осознание того, что господство невозможно», вместо того, чтобы быть постоянным согласованием различий, представляется лишь средством универсализации при помощи других средств, кроме войны [15]. Это не препятствует возвращению национальных государств или, раз о них зашла речь, монархий, которые в любом случае никогда не уходили, — о чем свидетельствует Королевство Саудовская Аравия, чья поддержка захватчиков авиалайнеров 11 сентября широко известна.
Процесс универсализации происходит в соответствии с различиями власти: технологически более сильные державы экспортируют знания и стоимости в более слабые и, следовательно, разрушают их внутреннее устройство. Французский палеонтолог Андре Леруа-Гуран прекрасно иллюстрирует этот процесс в своей книге 1945 года «Milieu et Techniques». Он определяет «техническую среду» как мембрану, разделяющую внутреннее и внешнее устройство различных этнических групп. Различия в технологическом развитии в значительной степени определяют границы различий в культуре и власти. Конечно, сегодня это вопрос, касающийся не древних этнических групп, но национальных государств и этнонационализма, определяющих границу культур.
В процессе модернизации динамика, описанная Леруа-Гураном, должна быть в значительной степени обновлена, поскольку все незападные страны оказались вынуждены приспосабливаться к непрерывному технологическому развитию и нововведениям, и, таким образом, подобной среды больше не существует. Возьмем, к примеру, Китай: поражение Китая в двух опиумных войнах привело к безудержной модернизации, в которой такая техническая мембрана стала по сути неустойчивой из–за фундаментальных различий в технологической мысли и развитии (наиболее значимой существующей мембраной, вероятно, является великий китайский файрвол, но его создание возможно исключительно благодаря Кремниевой долине).
Процесс универсализации был в основном односторонним, что свело незападное мышление к забаве. Даже для Лейбница, серьезно воспринявшего китайскую мысль в восемнадцатом веке, китайское письмо стало лишь источником вдохновения для создания characteristica universalis; другими словами, китайская мысль есть всего лишь переход к универсальному. Модернизация, последовавшая за опиумными войнами, усилилась во время Культурной революции, поскольку традиция (например, конфуцианство) была наивно оценена как возвращение к феодализму, что противоречило марксистскому взгляду на исторический прогресс.
Экономические реформы, начавшиеся в 1980‑х годах, которые возглавил крупнейший в мире ускоритель Дэн Сяопин, еще больше ускорили процесс модернизации. Сегодня военно-промышленные технологии на глобальном юге догоняют запад, преобразуя одностороннюю универсализацию западной современности с начала прошлого столетия. Гегельянское сознание должно признать, что «вершина и конечный пункт мирового процесса» находится далеко за пределами «собственного берлинского существования» Гегеля [16].
Последняя сцена такого жизнерадостного гегелевского сознания наблюдалась тогда, когда американские и европейские экспаты практиковали йогу в Индии, совершали восхождение на Великую Китайскую стену и наслаждались экзотическими прелестями природы за пределами своей страны. Сегодня, когда Шанхай не дешевле Нью-Йорка и когда Трамп обвиняет Китай в краже рабочих мест и уничтожении экономики США, эту историю можно считать оконченной.
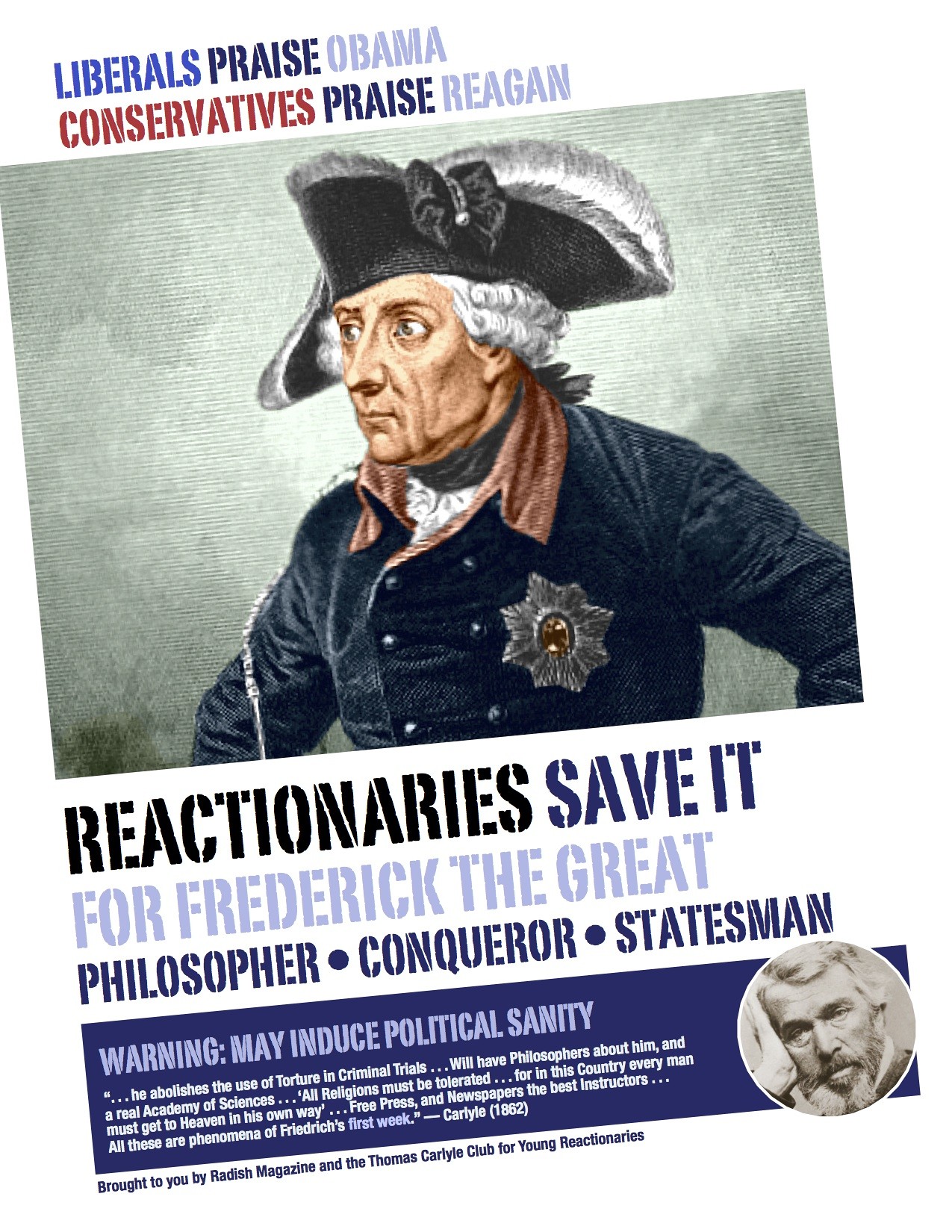
История глобализации продолжается, но счастливое сознание опережается материальными условиями. И не только в США. Когда я прошлым летом побывал в Барселоне, меня поразил тот факт, что многими испанскими ресторанами и магазинами управляют китайцы. Друг-антрополог, изучавший пригороды Барселоны, сказал мне, что ситуация еще более поразительна там, где большинством местных баров теперь владеют и управляют китайские семьи. Он отметил, что в ближайшие десятилетия произойдет что-то существенное из–за демографических изменений, не говоря уже о проблемах беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки.
Мы должны напоминать себе, что предел глобализации не устанавливается обманом Просвещения, как утверждают неореакционеры, а скорее, что это всего лишь исторический дух времени, в котором пересекаются колонизация, индустриализация и рождение политической экономии. Новая конфигурация глобализации теперь раскрывает ее другого, который уже присутствовал вначале, но оставался непродуманным.
В своей основе движение неореакционеров и «альтправых» — это выражение беспокойства по поводу того, что Запад оказывается неспособным преодолеть настоящую стадию глобализации и сохранить привилегию, которой он пользовался последние несколько сотен лет. Именно это признал Ник Ланд уже двадцать лет назад в тексте, озаглавленном как «Расплав»: «Китайско-тихоокеанский подъем и глобальная экономическая интеграция обрушат неоколониальную мировую систему, <…> в результате это приведет к неомеркантилистским паническим реакциям Европы и Америки, ухудшению социальной защиты, злокачественным анклавам внутренней недоразвитости, политическому краху и высвобождению культурных токсинов, ускоряющих процесс дезинтеграции в этом порочном круге» [17].
Неореакционная критика обнажает пределы эпохи Просвещения и ее проекта, но удивительно то, что это лишь продемонстрирует, что Просвещение не было когда-либо реализовано, или, скорее, что его история является компромиссом и искажением [18]. Объяснение появления неофашистской политики в мировом масштабе требует признания по крайней мере этого: точно так же, как любовь Гитлера к расе господ никоим образом не помешала его союзу с Японской империей (на самом деле, это британское командование Сингапура оставило обращенную к суше часть острова без защиты, потому что не посчитало возможным, что японцы могут видеть своими косыми глазами достаточно хорошо, чтобы атаковать с суши), так и ультранационализм в современном изводе представляет собой подлинно международное явление.
Неофашистское движение выходит далеко за пределы географии Европы и Америки, обладая различными способами ориентации «глобального» и «местного». Возьмем, к примеру, русского политического теоретика и самопровозглашенного хайдеггерьянца Александра Дугина и его «четвертую политическую теорию». Как и Ланд, Дугин — не тот, кого легко дискредитировать или осудить. Да, его нужно понимать как истинного реакционера. Его четвертая политическая теория утверждает, что идет дальше краха трех предыдущих политических теорий: либерализма, коммунизма и фашизма [19].
Если субъекты предыдущих трех политических теорий — это, соответственно, индивидуум, класс и национальное государство или раса, то субъектом четвертой политической теории является хайдеггеровский Dasein [20]. Dasein сопротивляется лишению корней постмодерна, «полночи», «когда Ничто (нигилизм) начинает просачиваться из всех щелей» [21]. Четвертая политическая теория — это на самом деле реакционная теория, уходящая своими корнями в консервативную революцию и фашистские движения (Артур Мёллер ван ден Брук в Германии, Юлиус Эвола в Италии), традиционализм (Рене Генон), в новых правых (Ален де Бенуа). Для Дугина, глобальное — это современный мир, и местное — это русская традиция.
В азиатских городах, таких, как Гонконг, в последние годы появилось похожее движение. Его инициировал исследователь фольклора Ван Чин, защитивший диссертацию по этнологии в Гёттингене в 1990‑х годах. Его теория «Гонконг — город-государство» основана на неуклюжем неорасизме против материковых китайцев, с заменой «глобального» Китаем и «местного» смесью колониальной истории и китайской культуры, восходящей к династии Сун. Лично я не являюсь традиционалистом, хотя и ценю традицию и до сих пор верю в то, что крах всех коммунистических революций связан с неспособностью уважать традицию и извлекать пользу из ее ресурсов, противопоставляя вместо этого материю духу.
Противопоставление материи и духа приводит к нигилизму, который подталкивает модернизацию к ее крайности. Сегодня вопрос заключается не в том, чтобы отказаться от традиции или ее защищать, а в том, как десубстанциализировать традицию, понятую как эпистема и эпистомология, и овладеть с ее помощью современным миром — как я попытался предложить в моей последней книге [22]. Я подчеркиваю одновременно эпистему и эпистемологию, поскольку эпистемологический сдвиг все еще остается в курсе европейской мысли и служит для диверсификации и совершенствования унифицирующей технической системы; вопрос об эпистеме идет дальше, поскольку он также касается вопроса о формах жизни.
Это означает, что будет необходимо преобразовать собственно традицию, чтобы заново овладеть технологической модернизацией и воссоздать новую эпистему. Таковы тонкие операции, которые мы должны произвести, и произвести аккуратно вместо того, чтобы относить дискурс в ясные противопоставленные и исключительные категории правого и левого.
Критики часто отмечали, что глобализация — это еще одно название глобального капитализма. Несмотря на различия между капиталистической глобализацией и альтернативной глобализацией, молчание антиглобалистского движения с конца тысячелетия побудило некоторых авторов предположить, что сближение с определенной стерильностью должно заставить революционеров оторваться от ограничений левой политики, которые держат «Гулливера революции прикованным к земле» [23]. Радикальная политика призвана как революционерами, так и неореакционерами, хотя и радикальными в двух совершенно различных направлениях.
4. Мышление после расплава
Как же тогда Запад собирается спастись, преодолеть это противоречие несчастного сознания? Реакция, как и фашизм, не говорит правду, а лишь позволяет людям выразить себя. Победа Трампа — это в той или иной степени победа реакционного правого мышления, которое не дает достойного анализа ситуации, а, скорее, обращается к эмоциям, как однажды сказал Эрнст Блох о ситуации в Германии [24]. Комментаторы пытались, основываясь на связи между Тилем и Жираром, сравнить Трампа и технологических предпринимателей с козлами отпущения [25]; подобно фармакону в древней Греции или королю, описанному сэром Джеймсом Фрэзером в «Золотой ветви», их жертва кладет конец социальному и политическому кризису.
Однако фигура козла отпущения подобна «красной таблетке»: это всего лишь риторическая тактика, оправдывающая ее реакционную тенденцию как скрытую истину. Жертва козла отпущения — это новое определение друга и врага, что довольно очевидно в позиции Трампа по китайско-российско-американским отношениям. Чтобы сохранить неравномерность глобализации и избежать затратной войны, в жертву будут принесены настоящие козлы отпущения, поскольку они являются сосудами для сокрытия правды в пользу популистских движений.
Иными словами, как Запад может поддерживать одностороннюю глобализацию, чтобы сохранить свои привилегию и превосходство? Ланд не задается этим вопросом, он просто мобилизует неореакционеров как средство продвижения своей бионической повестки. Однако как бы ни хотелось иного, мы не можем отрицать тот факт, что сегодняшний мир больше не может поддерживать прежний порядок; военная модернизация прошлого века делает это невозможным.
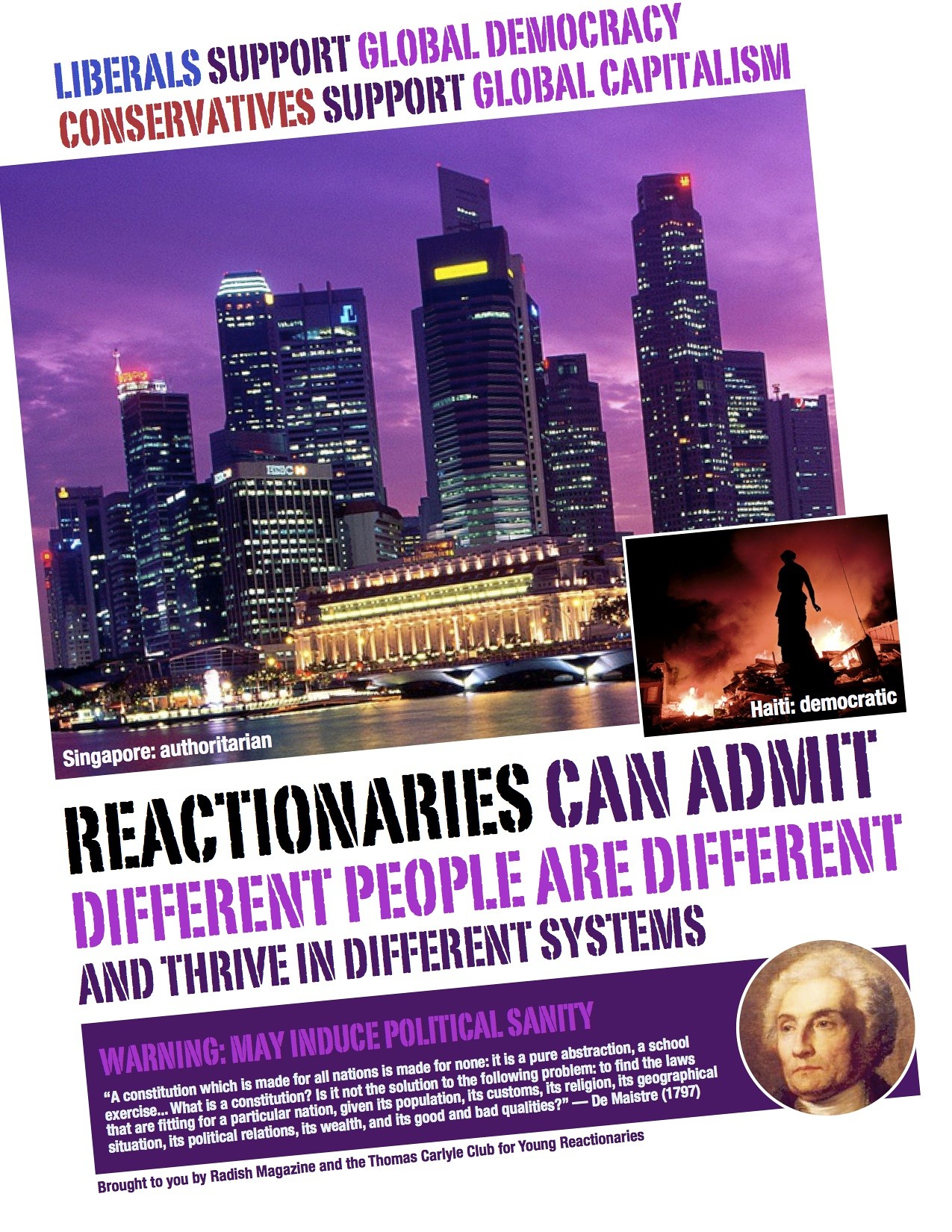
Блох был прав, но эмоций недостаточно. Реакционные модернисты также предоставили нечто вещественное. Они хотели преодолеть оппозицию между natur и technik, и, следовательно, примирить natur и kultur (kultur считалась противопоставленной zivilisation) в рамках внутренней (innerlichkeit) европейской культуры. Поэтому после публикации «Заката Европы» (1922) Шпенглер последовал с книгой «Человек и техника: вклад в философию жизни» (Der Mensch und die Technik: Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, 1931), чтобы подтвердить свои протехнологические позиции [26].
Сегодня мы можем наблюдать, как технология возвращается, чтобы представить футуристическое видение технологической сингулярности в качестве решения всякой политики с добавленным нюансом: innerlichkeit перестает быть главной заботой. Тиль — венчурный капиталист, финансировавший крупные технические компании, такие как Facebook, Google и PayPal. Как он писал в книге «От нуля до одного», технология означает комплементарность, а «сильный искусственный интеллект похож на космический лотерейный билет: если мы победим, мы получим утопию; если мы проиграем, Skynet вытеснит нас из жизни». Мольдбаг — разработчик операционной системы Urbit, построенной на либертарианских принципах.
Ник Ланд увлечен технологической сингулярностью и «бумом интеллекта» начиная с 1990‑х годов. Недавно он пел дифирамбы биткоину вслед за другими неореакционерами вроде Элиезера Юдковского, известного ИИ-исследователя. По мнению Тиля, только путем активного технологического вмешательства Запад может оправиться от демократии. Акселерационизм Ланда — самый хитроумный из акселерационизмов разного рода и гораздо более философский, чем его левацкая версия, которая опирается на довольно мелкое понимание технологии.
Его трансгуманистская позиция, однако, является еще одной разновидностью «универсализма», в которой вся культурная относительность поглощается интеллектуальной кибернетической машиной, создавая «расплав» — абсолютную детерриториализацию и взрыв разумности, захватывающий творческую энергию интеллектуальной интуиции в кантовском смысле. Ланд стремится к ремифологизации мира через лавкрафтовский причудливый реализм. «Бесконечность [которая] заканчивает в себе» — поэтическая фраза из фантастического романа Ланда «Фил-Ундху», направленная на идеалистический рекурсивный генезис.
Соревнование за достижение технологической сингулярности стало основной битвой, и угроза войны никогда не была столь близкой. Тиль однажды написал, что «конкуренция для проигравших», поскольку именно монополия, «производя комбинацию количества и цены, доводит прибыль до максимума» [27]. Ирония заключается в том, что неполитику, поддерживаемую Тилем, кренит к такой нежелательной судьбе. Мы должны избегать этой войны любой ценой. Это не означает, что мы должны полностью отказаться от возможности сверхинтеллекта. Но мы должны сопротивляться отдаче себя в руки судьбы, предопределенной технологическим развитием. Нам срочно нужно представить себе новый мировой порядок и воспользоваться возможностью, созданной расплавом, чтобы развить стратегию, противостоящую неустанным деполитизации и пролетаризации, движимыми трансгуманистической фантазией сверхразума.
Этот расплав не должен означать конец света. К нему можно также относиться как к поворотному политическому и философскому моменту, когда перестройка как в глобальном, так и в местном масштабе возможна, потому что старые уклады растворены новыми технологиями. По словам Бернара Стиглера, мы можем описать момент нашего существования как «цифровую epoché», в которой старые институциональные формы не только концептуально, но и материально приостановлены. Например, Финляндия рассматривает возможность использования новых цифровых технологий для отказа от традиционного способа обучения в соответствии с предметом и разработки учебной программы, которая предполагает большее сотрудничество учителей.
Это момент, когда могут быть созданы новые формы учебных заведений, когда может быть проведено «обнищание» (в значении Агамбена) с целью взлома синхронизации, до сих пор служившей интересам глобализации. Это обнищание может привести к появлению эпистем, которые расходятся c гегемонной синхронизацией, внутренне присущей технологической сингулярности. Это возможность развивать новое мышление и новые конституции, выходящие за рамки современных дебатов, ориентированных на всеобщий базовый доход и роботизированные такси. Мы не должны дожидаться, пока технократы реализуют это мышление через длинные отчеты из «Собора».
В заключение вернемся к Просвещению и его мировому процессу. Философия имеет основополагающее значение для революций, утверждал Кондорсе, поскольку она одним движением меняет основные принципы политики, общества, морали, образования, религии, международных отношений и законодательства [28]. Такое понимание философии должно быть обращено к мышлению ради новой мировой истории. Может быть, мы должны дать мысли задачу, противоположную той, которая была дана ей философией Просвещения: фрагментировать мир соответственно различиям, а не универсализировать через одинаковое; индуцировать одинаковое через различие, а не дедуцировать различие из одинакового. Новое всемирно-историческое мышление должно появиться перед лицом мирового расплава.
Перевод с английского Анны Ликальтер и Егора Софронова

Примечания
1 Peter Thiel. The Straussian Moment // Studies in Violence, Mimesis, and Culture: Politics and Apocalypse. Ed. Robert Hamerton-Kelly. East Lansing: Michigan State University Press, 2007. P. 189–218.
2 Ibid. P. 207.
3 Отсылка к «несчастному сознанию» призвана обозначить, что неореакционное мышление есть скептицизм, который не может выбраться из себя, сродни тому, что Гегель утверждал в своем описании стоицизма и скептицизма в «Феноменологии духа». Гегель считал скептицизм удвоением самосознания, сущностным аспектом Духа, еще не достигшего единства: «Несчастное сознание есть сознание себя как двойной лишь противоречивой сущности». Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Феноменология духа. Перевод с немецкого Густава Шпета. Санкт-Петербург: Наука, 2015. С. 112. §206–207. Пагинация соответствует собранию сочинений в 14-ти томах, том IV. Москва: 1959.
4 Гегель. Феноменология духа. С. 400. §752.
5 См. Jean Hyppolite. Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit (1946). Trans. Samuel Cherniak and John Heckman. Evanston: Northwestern University Press, 1979. P. 197, 207.
6 Ibid. P. 207.
7 Освальд Шпенглер. Годы решений (1933). Перевод с немецкого В.В. Афанасьева. Москва: Скименъ, 2006.
8 Читателям может быть интересно обратиться к книге «Неореакция, василиск» Филипа Сандифера (готовится к изданию), которая детально описывает возникновение неореакционеров и их основных мыслителей вроде Элиезера Юдковского, Ника Ланда и в особенности Мэн-цзы Мольдбага. В настоящем эссе я придерживаюсь другого фокуса.
9 Ishaan Tharoor. The Man who Declared the «End of History» Fears for Democracy’s Future // The Washington Post, February 9, 2017.
10 Peter Thiel. The Education of a Libertarian // Cato Unbound: A Journal of Debate, April 13, 2009, доступно по https://www.cato-unbound.org/2009/04/13/peter-thiel/education-libertarian.
11 Nick Land. The Dark Enlightenment (2012). Доступно по http://www.thedarkenlightenment.com/the-dark-enlightenment-by-nick-land/. Все последующие цитаты из Ланда из данного текста, если не указано другое.
12 Якобитство было движением в Великобритании семнадцатого и восемнадцатого веков, боровшимся за восстановление божественного права королей.
13 См. Jonathan Israel. A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2010.
14 Milton Friedman. The Hong Kong Experiment (1997). Доступно по https://www.hoover.org/research/hong-kong-experiment.
15 Bruno Latour. Is Re-modernization Occurring—And If So, How to Prove It? // Theory, Culture & Society vol. 20 no. 2 (2003). P. 35–48. Цит. по Ulrich Beck, Wolfgang Bonss, and Christoph Lau. The Theory of Reflexive Modernization: Problematic, Hypotheses, and Research Program // ibid. P. 1.
16 Фридрих Ницше. Несвоевременные размышления // Полное собрание сочинений в 13 томах. Москва: Культурная революция и Институт философии Российской академии наук, 2013. Том 1, часть 2. С. 147.
17 Nick Land. Meltdown // Abstract Culture 1 (first swarm). Cybernetic Culture Research Unit 1 (1997). Перепечатано в Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2007. Falmouth and New York: Urbanomic and Sequence Press, 2011. P. 441–459.
18 Просто напоминание о том, что радикальные мыслители вроде Дидро и Гольбаха были очень скептично настроены к экономическим принципам laissez-faire Анна Робера Жака Тюрго, поскольку те были уязвимы перед всякого толка «friponnerie», требуя строгого надзора и вмешательства государства. См. Jonathan Israel. A Revolution of the Mind. P. 117–118.
19 Alexander Dugin. The Fourth Political Theory. London: Arktos, 2012. P. 9. Оригинальное издание: Александр Дугин. Четвертая политическая теория. Санкт-Петербург: Амфора, 2009.
20 Ibid. P. 34.
21 Ibid. P. 29.
22 Yuk Hui. The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics. Falmouth: Urbanomic, 2016.
23 The Invisible Committee. To Our Friends. Los Angeles: Semiotext (e), 2015.
24 См. Jeffrey Herf. Reactionary Modernism: Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 101.
25 В книге «От нуля до одного» Тиль сам приводит сравнение между «основателями» (предпринимателями) и козлами отпущения: «Из кого получаются эффективные козлы отпущения? Как и основатели, козлы отпущения есть крайние и противоречивые фигуры. С одной стороны, козел отпущения необходимо слаб; он бессилен препятствовать собственному становлению жертвой. С другой стороны, как тот, кто способен отразить конфликт путем принятия вины на себя, он является самым могущественным членом сообщества».
26 Jeffrey Herf. Reactionary Modernism. P. 38.
27 Peter Thiel. Competition is for Losers // The Wall Street Journal, September 12, 2014.
28 Jonathan Israel. Revolution of the Mind. P. 45.